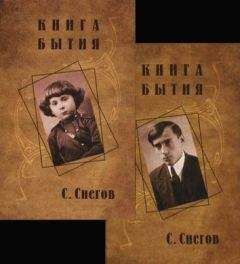Я догадывался, что после грозных откровений Рыдз-Смиглы Ленскому придется несладко: Сталин, недоверчивый к соратникам, врагам верил. И — соответственно — был податлив на провокации. Но, конечно, я и подозревать не мог, каким жестоким будет его ответ!
Уже в лагере, куда стекались все слухи и тайные сведения, я узнал, что в 1937 году Сталин пригласил на совещание в Москву весь актив польской коммунистической партии. Не приехали — и потому спаслись — лишь те, которые в это время сидели в местных тюрьмах. Остальные тайными тропами пробрались в СССР. Здесь их арестовали и без промедления расстреляли, а сама компартия была распущена Коминтерном — как зараженная вражеским проникновением. Восстановили ее, если не ошибаюсь, только после нашего XX съезда.
Так руководитель коммунистов всего мира расправлялся с зарубежными коммунистическими партиями. Впрочем, своей тоже доставалось — до полной смены местных руководителей и почти полного обновления состава.
Книга Рыдз-Смиглы была, кажется, последней, полученной от Палей. Ко дню моего ареста летом 1936 года наше необычное сотрудничество тихо сошло на нет.
Одним из самых необычных моих знакомых начальной ленинградской поры стал Аркадий Малый (в этой многочисленной семье он оставался единственным, с кем я еще не встречался). Не помню, где произошла первая встреча, но вторая была в «Европейской» (он занимал там внушительный номер). Посреди комнаты на переносном столике был сервирован роскошный ужин: закуски, отбивные, мороженое, торт, напитки. Аркадий, невысокий, плотный, с гитлеровскими усиками, был совсем не похож на своих братьев и сестер.
Впрочем, у младших Малых было мало общего — словно и родители у них были разные. Лишь дураков среди них не наблюдалось: все одинаково выделялись умом, инициативностью и угловатостью характера. Саша, пожалуй, был самым талантливым в этой когорте незаурядных личностей.
— Пей! — приказал Аркадий, усаживая меня за столик. — Ешь тоже, но это не главное: даже в «Европейской» изысканной жратвы теперь не достать. А шампанское — французское, и ликер «Доппель-Кюмель» из Германии. Фашизм на качестве продукции пока не отражается. Коньяк наш — зато «Греми».
— Учту, — сказал я и налил себе «Греми» (для начала).
— А ты похож на себя, — продолжал Аркадий. — В смысле: Фира тебя так и описывала. Немного перехлестнула, конечно, насчет наружности. Ничего особенного — тут она завралась.
Я не стал спорить.
— А чего еще ожидать от влюбленной женщины?
— Тогда выпьем за влюбленных женщин! — предложил Аркадий. — Ужасно рад, что они существуют на свете. Налей вон из той бутылочки. И мне плесни — это «Бенедиктин», семьдесят градусов, горло обжигает, но дух не спирает. Вершина питейной техники! Французский, разумеется.
Аркадий больше налегал на изысканные напитки, чем на закуску, и быстро пьянел.
— Все же забористо, — сказал он после «Бенедиктина». — О чем мы с тобой говорили?
— О влюбленных женщинах.
— Правильно, о женщинах. Слушай, тебе не нужно девочек? Могу обеспечить, только позвони. Ты кого предпочитаешь — коллективисток или индивидуалочек?
— И это предлагает родной дядя моей жены? — засмеялся я.
— А в чем дело? — забеспокоился он. — Ты же Фире не скажешь, правда? Я твою жену уважаю, как никого. Никогда не буду ее огорчать. А насчет девочек — это же специфически мужское дело, хорошей жены оно не касается.
Мы выпили еще немного. Я, в отличие от Аркадия, еще и закусывал.
— Как твои ленинградские дела? — спросил он. — Научился зарабатывать деньги? Впрочем, если попросишь взаймы, не дам. И не потому, что бедный или скупой. Денег через мои руки проходит много, но свободных никогда не бывает. Давай перейдем на шампанское. Оно очень легкое, вытрезвляет. Чуешь, какой смак? Не чета нашему — даже крымскому, из «Нового света», с завода князя Голицына.
Я все же был недостаточным эстетом, чтобы понять, чем французское шампанское отличается от нашего. Вино было как вино — шипучее и вкусное. И меня оно не отрезвляло, а все больше пьянило.
Мы осушили французскую бутылку. Аркадий продолжал:
— Мы на чем остановились? Да, на девочках. Могу позвонить, придут сразу две. Выберешь сам, какая больше понравится. Обе хорошенькие, можешь не сомневаться. Уродливые — не моя стихия.
— Не нужны мне твои девочки. Меня другое интересует.
— Говори. Все сделаю. Только денег не проси — нет.
— Я слышал, тебя дважды приговаривали к расстрелу.
— Трижды, — сказал он с гордостью. — Честь по комедии: три полностью законных раза.
— И не расстреляли?
— Разве незаметно, что я живой? Меня расстрелять невозможно.
— Значит, у тебя большая рука в Москве?
— Не большая рука, а большие дела. Сам Вышинский мне недавно сказал — по-дружески так: «Давно надо бы с вами разделаться, Малый, а не могу — права не имею».
— Вышинский по-дружески с тобой разговаривал?
— А как он мог по-другому? Впрочем, Вышинский — гад. И прокурор Крыленко — подонок. С ним я тоже говорил. Нехорошие люди. Возмущаются, что меня расстреливать запрещено. И впредь так будет: приговорить к расстрелу — пожалуйста, не возражаю. А привести приговор в исполнение — дудки.
— Чем же ты заслужил такую индульгенцию?
— Чего-чего?
— Индульгенцию. В смысле: освобождение от наказания за любое прегрешение.
— Не за любое. Подними я восстание против советской власти — защита не сработает. Но восстания не моя стихия, я больше по экономике.
— И по красивым девочкам. Сам говорил, что они тоже твоя стихия. Семья исключена?
— Исключена. Не женился и не женюсь. Зачем? Юбками меня господь не обделил — этого добра хватит.
— Какие же у тебя немыслимые заслуги? Он хитро улыбнулся.
— Вот чего захотелось! А слышал о такой вещи, как подписка о неразглашении?
— Всякое неразглашение имеет свой срок. По истечении времени секреты рассекречиваются.
— Мой секрет не рассекретят, пока существует советская власть. Ибо он касается принципиальных ее основ. Понял? Принципиальных!
— Понял только то, что ничего не понимаю.
— А больше тебе и не надо. Теперь понимаешь? Так как же насчет девочек? Позвонить, что ли? Одна шатенка, другая черней нашей южной ночи. Тебе обе понравятся. Но выбирай только одну, другая будет моей.
— Пошел ты со своими девочками! Так не расскажешь о своих принципиальных тайнах?
Аркадий совсем захмелел — у меня в голове тоже зашумело. Я становился все настойчивей — он слабел. И наконец раскололся, взяв с меня слово, что даже после смерти, на адском суде, на строгом допросе у верховного Сатаны, я и намеком не проговорюсь о том, что он, Аркадий, считал своим величайшим подвигом.