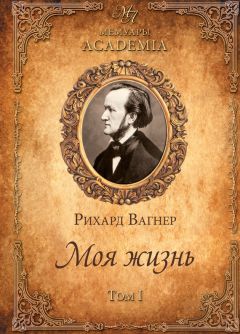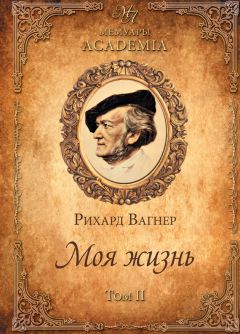И много других лиц перебывало в гостеприимном доме моего зятя: одни из них обращали на себя внимание утонченной вежливостью, другие – необычайной воинственной внешностью. Но настоящим образцом для меня надолго оставался только граф Тышкевич, как идеал мужественности: его я и любил, и чтил.
34
Этот превосходный человек платил и мне некоторой взаимностью. Почти ежедневно приходил я к нему и часто проводил у него время среди окружавшей его шумной «полувоинской» обстановки. Иногда он охотно со мной удалялся, чтобы где-нибудь в спокойном месте развеяться, сбежать от угнетавших его забот. До сих пор не было у него никаких известий о его жене и маленьком сыне, с которыми он расстался в Волыни. Кроме того, на душе его лежало тяжелое горестное воспоминание о событии, которое невольно вызывало к нему особенное сочувствие: об ужасном несчастье, его однажды постигшем, он сам рассказал моей сестре Луизе. Женившись на своей первой жене, он посетил с ней один из своих замков. Ночью в окне его спальни показалось привидение. Несколько раз он окликнул его и, не получая ответа, схватил ружье и… застрелил свою собственную жену: ей пришла в голову эксцентричная идея подразнить мужа, нарядившись духом.
Скоро я порадовался вместе с ним, когда пришло наконец известие о спасении его семьи, а затем приехала в Лейпциг его жена, вторая, с дивно красивым трехлетним мальчиком (Янушем). Мне было больно, что я не мог отнестись к этой даме с той же симпатией, с какой я отнесся к ее супругу: оттолкнуло меня то, что она оказалась сильно нарумяненной. Несчастная, совершенно измученная женщина старалась скрыть следы истощения и горя на лице. Вскоре она опять уехала в Галицию, чтобы спасти из своих владений то, что еще можно было спасти, и в то же время выхлопотать у австрийских властей для мужа паспорт, с которым он мог бы за нею приехать.
Наступило наконец 3 мая. Восемнадцать поляков, остававшихся в Лейпциге, устроили торжественную трапезу в одной из гостиниц, в окрестностях города, чтобы здесь отпраздновать дорогую для всякого поляка историческую дату польской Конституции. К участию в празднике был приглашен только президиум лейпцигского польского комитета – получил и я приглашение как знак особенной ко мне симпатии и расположения. Это был удивительный, полный незабываемых впечатлений день. Трапеза этих воинов приобрела характер целого пиршества: приглашенный из города духовой оркестр непрерывно играл польские народные песни, которые вслед за запевалой литовцем Цаном [Zàn], то с воодушевлением, то с грустью подхватывало все общество. Особенный, потрясающий энтузиазм овладел всеми при исполнении прекрасной песни «Третье мая». Плач и ликование возросли до крайних пределов, до невероятного шума. Наконец, общество разбилось на небольшие группы, на отдельные пары, которые, расположившись на лужайках в саду, углубились в горячие, полные патриотического огня и любви беседы, непрестанно повторяя неисчерпаемое по своему содержанию слово «отчизна» как общий для всех лозунг. Так длилось до тех пор, пока опьянение не окутало всех своим темным, как ночь, покровом. Сон этой ночи вылился у меня впоследствии в оркестровую композицию в форме увертюры, которую я озаглавил «Польша» [Polonia]. О судьбе этого произведения расскажу ниже, при случае.
35
Прибыли паспорта моего друга Тышкевича, и он намеревался отправиться через Брюнн [Brünn][181] в Галицию, что его друзьям казалось небезопасным. Во мне загоралось желание несколько шире взглянуть на Божий мир. Тышкевич предложил мне ехать с ним, матушка согласилась на столь заманчивое для меня путешествие в Вену. С моими тремя уже публично исполненными увертюрами и с большой, нигде еще не исполнявшейся симфонией в чемодане я отправился в путь: в удобном дорожном экипаже мне предстояло проводить Тышкевича до столицы Моравии. В Дрездене мы сделали короткую остановку, и здесь все члены польской эмиграции благородного и неблагородного происхождения устроили в Пирне [Pirna] в честь любимого ими всеми графа прощальную трапезу. Шампанское лилось рекой, и будущему «диктатору Польши» провозглашена была здравица. Наконец мы расстались в Брюнне, откуда на следующий день на почтовых я отправился в Вену.
В течение второй половины дня и всей ночи меня несказанно мучил внезапно налетевший на меня страх заболеть холерой. Впервые попал я в местность, где, как я совершенно случайно узнал, эта эпидемия укоренилась довольно прочно. Только что расставшись с заботливым надежным другом, совершенно одинокий, в чужой стране, без каких бы то ни было связей на месте, я почувствовал себя так, как будто злобный демон завел меня куда-то в западню, чтобы совершенно уничтожить. В гостинице, на людях я старался не обнаруживать своего страха, но когда меня отвели в отдаленный флигель, где был устроен мой ночлег и где я ощутил себя совершенно покинутым, как в пустыне, я, не раздеваясь, зарылся в постель и пережил еще раз то же, что испытывал в детстве, когда меня по ночам преследовали привидения. Холера стояла передо мною, как живая: я ее видел, мог бы схватить ее рукой. Она подошла вплотную к моей постели, обняла меня. Все члены мои закоченели, я чувствовал смерть во всем теле. Был ли то сон или бред наяву, не знаю. Но с наступлением утра я встал и был в высшей степени удивлен, когда убедился, что жив и даже чувствую себя прекрасно. Мне удалось уйти от холеры и счастливо доехать до Вены, где тоже свирепствовала эта эпидемия, но где меня почему-то это совершенно не заботило.
36
Был разгар лета 1832 года. В оживленном большом городе, в котором я провел шесть недель, я почувствовал себя скоро совершенно как дома, может быть, благодаря тому, что запасся рекомендациями к нескольким лицам, находившимся в дружеских отношениях с моей семьей. Поездка моя не была связана ни с какими практическими планами. Это была просто приятная прогулка, которая могла меня обогатить несколькими интересными впечатлениями. Поэтому согласие матушки дать мне хотя бы небольшие средства на эту поездку было продиктовано ей поистине одним лишь великодушием. Я посещал театры, слушал Штрауса[182], делал экскурсии и вообще жил в свое удовольствие. В результате я сделал кое-какие долги, которые пришлось погашать впоследствии, когда я был уже в Дрездене капельмейстером.
Здешние театральные и музыкальные впечатления оказали на меня, во всяком случае, очень освежающее влияние, и Вена долгое время оставалась для меня средоточием оригинального, самобытно народного творчества. В этом отношении больше всего меня удовлетворяли спектакли в театре «Ан дер Вин»[183]: тут ставилась шуточная фантастическая комедия Die Abenteuer Fortunats zu Wasser und zu Land[184], где, между прочим, нанимают «фиакр к Черному морю».
В музыкальном отношении я разрывался между двумя совершенно противоположными впечатлениями. С гордостью повел меня один юный друг на «Ифигению в Тавриде» Глюка[185]. Эту оперу мне особенно горячо советовали послушать и посмотреть из-за превосходного исполнения Вильда [Wild], Штаудигля [Staudigl] и Биндера [Binder]. Однако должен сознаться откровенно, что в общем мне это творение показалось скучным. Это было тем мучительнее для меня, что вслух признаться в этом я не решался. Благодаря известному фантастическому рассказу Гофмана я составил себе о Глюке еще до того, как познакомился с ним на деле, представление как о демонической, колоссальной фигуре. Я предполагал найти в нем массу увлекательного, драматического огня и ждал от его знаменитейшего творения приблизительно таких же потрясающих впечатлений, какие я некогда испытал в тот незабвенный вечер, когда услышал «Фиделио» в исполнении Шрёдер-Девриент. Но экстаз мой во время большой сцены Ореста с фуриями по сравнению с теми ощущениями едва достигал и половинной высоты. Все остальное в опере возбуждало лишь торжественно напряженное ожидание чего-то, так ничем и не разрешившееся.
Настоящим же жизненным нервом венского театрального вкуса была опера «Цампа»[186], ежедневно ставившаяся в обоих оперных театрах, у Каринтийских ворот[187] и в Йозефштадте[188]. Оба театра соперничали друг с другом в исполнении этого любимого произведения. Публика делала вид, что наслаждается «Ифигенией», но в искренний, бешеный восторг приходила она от «Цампы». И когда, оставив Театр в Йозефштадте, где только что всех и все приводила в экстаз «Цампа», мы входили в расположенный тут же Tabagie von Sträußlein[189], нам навстречу неслись звуки попурри из «Цампы», разыгрываемого под лихорадочным дирижерством самого Штрауса. Эти звуки буквально воспламеняли всю публику. Никогда я не забуду того огня, того близкого к бешенству одушевления, с каким Иоганн Штраус вел оркестр, подыгрывая тут же на скрипке. Этот демон венского музыкального народного духа весь преображался при начале каждого вальса, как пифия на треножнике. И настоящий стон восторга вырывался у публики, опьяненной его музыкой более, чем выпитым вином, стон, возносивший волшебного скрипача-дирижера на недосягаемую высоту. Таким образом, знойный летний воздух Вены казался мне, в конце концов, насыщенным только «Цампой» и Штраусом.