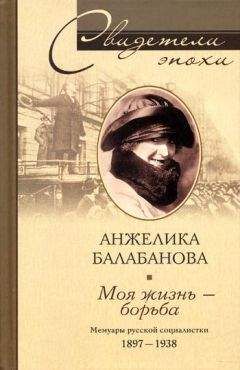Когда я пошла навестить их в эти казармы, я получила намек на то, каким будет тон съезда. Так как я никогда раньше не присутствовала на русском съезде, я не поняла, насколько серьезно мои соотечественники восприняли свое деление на фракции. Первая фраза, которой меня встретили, когда я, наконец, получила доступ в казармы, была не приветствие, а вопрос: «Вы от какой фракции?»
Странно, что съезд проводился в церкви. Она называлась церковь Братства, а ее паства, вероятно, состояла из христиан-социалистов или пацифистов, которые смутно симпатизировали делу русских и были бы, без сомнения, сильно шокированы, если бы присутствовали на некоторых заседаниях и поняли бы некоторые споры. Очевидно, они не предполагали, как долго продлится наш партийный съезд, когда давали свое согласие на то, чтобы мы воспользовались церковью, и на протяжении последующих недель самые горячие теоретические споры прерывались объявлением обычно одного из лондонских эмигрантов: «Товарищи, совет церкви Братства извещает нас, что мы можем пользоваться этим зданием еще только два дня». Так как у нас не было денег, чтобы заплатить за другое помещение, в конце концов был достигнут компромисс, согласно которому русские должны были освобождать церковь днем или вечером на время проведения церковных служб.
Ранее я присутствовала на бурных, волнующих съездах итальянской партии, на внушительных собраниях немецких социал-демократов и запоминающихся заседаниях Исполнительного комитета Второго интернационала, на которых различные направления внутри движения находили выражение в блестящих словесных поединках или в упорядоченных спорах. Во всех этих группах у присутствующих было достаточно чувства единства по определенным основным положениям, чтобы оно обеспечивало на практике эффективный союз против общего врага.
На русском съезде не чувствовалось такой уверенности в базисном единстве. И хотя организационный раскол между меньшевиками и большевиками был преодолен год назад в Стокгольме, и окончательный и бесповоротный разрыв между ними произойдет еще только через пять лет, с самого первого заседания на съезде главенствовал всепоглощающий, почти фанатический дух фракционности, который, казалось, может расстроить его в любой момент. Несмотря на озабоченность фракционной стратегией, остротой и даже лживостью некоторых доводов – особенно тех, к которым прибегали большевики, – общий теоретический и научный уровень дискуссии был выше, чем на любом другом собрании революционеров, на котором мне доводилось присутствовать. Выступления вождей длились часами (сам съезд должен был продлиться шесть недель), и, когда они приступали к теоретическим вопросам и приводили исторические аналогии, сразу как-то забывалось, что это политический съезд. Это могло быть собрание преподавателей высших учебных заведений или затянувшийся научный спор. Русским не приходило в голову, что эти длительные теоретические споры можно подчинить – как это часто делали другие революционеры – вопросам практики и тактики, иначе эта продолжительная полемика представляла собой пустую трату времени. Для них было самоочевидно, что всей революционной деятельности должно предшествовать – а затем и руководить ею – полное прояснение всех теоретических вопросов. И если они на своих съездах доводили эту убежденность до некоей абсурдной крайности, то это происходило не из-за особенностей русского интеллекта и темперамента, а больше из-за особых условий, в которых находилось русское движение. Так как оно было подпольным и в большой степени развивалось в эмиграции, его вожди были отрезаны от практической деятельности и ответственности за более отсталых рядовых его членов. В отличие от вождей рабочего движения на Западе свое время и энергию они посвящали изучению общественных, философских и экономических теорий, применять которые у них было мало возможности. Даже те насущные практические проблемы, вроде тех, которые были подняты докладом представителей социал-демократов в Думе, рассматривались в связи с продолжительной и яркой дискуссией о классовых отношениях в России между буржуазией, промышленными рабочими и крестьянством.
На съезде присутствовали все титаны социал-демократии революционной России, от крайних правых до крайних левых – Церетели, Плеханов, Аксельрод, Дейч, Мартов, Троцкий, Ленин, Зиновьев, Роза Люксембург от Польши и даже Горький, который приехал скорее как гость, нежели делегат.
Первые заседания съезда, как обычно, должны были заниматься избранием президиума или председательствующего комитета, состоящего из представителей различных фракций, который устанавливает регламент проведения заседаний и контроль за которым имеет чрезвычайно высокое стратегическое значение. Все заранее знали, кто будет соперничать за пост председателя: Плеханов от меньшевиков и Ленин от большевиков. Но выборы председателя и оратора, который своей речью будет открывать съезд, спровоцировали спор, охвативший практически все вопросы, которыми должен был заниматься съезд.
Борьба за принятие решения по этому вопросу бушевала больше недели. Она была такой жестокой, что, как мне казалось, должна была бы истощить весь запас споров, равно как и силы самих делегатов, даже если участие большинства из них ограничивалось аплодисментами, одобрительными возгласами и прерыванием ораторов.
Когда стало ясно, что съезд будет тянуться неопределенно долго, снова встала проблема финансирования. Горький, который в ту пору был самым левым из большевиков, а также самым известным романистом-революционером в мире, был нашей самой лучшей гарантией успеха. Его дополнительно ввели в финансовую комиссию, состоявшую из одного большевика, одного меньшевика и меня.
И Горький, и его вторая жена актриса Мария Андреева были у большевиков самым богатым источником финансовой поддержки и связующим звеном с богатой сочувствующей буржуазией в России и Англии. Съезд партии получил широкое освещение в либеральной английской прессе, а ее лидеров приглашали в дома наиболее радикальных и авантюрных ее сторонников, где они должны были приятно возбуждать слушателей салонов рассказами о преследованиях в темной России.
Я помню, что Чарней Владек, в настоящее время главный представитель Американской лейбористской партии, присутствовал на съезде под политическим псевдонимом Лассаль, который ему был дан за его ораторский талант. Некоторые потенциальные хозяйки салонов, очевидно, приняли его за настоящего Фердинанда Лассаля, чью жизнь и смерть – в романтической дуэли из-за Хелен фон Доннигес – использовал Джордж Мередит в качестве сюжетной основы для своего романа[4]. Помимо богатых дилетантов было много искренних и здравомыслящих друзей русского народа в литературном, журналистском мире Лондона и радикальных кругах. Это были друзья более старого поколения русских эмигрантов, которые приехали в Лондон в 80-х годах, но мы не могли рассматривать их с точки зрения получения финансовой помощи. Наша комиссия приняла решение, что мы смогли бы занять достаточное количество денег у богатых либералов для продолжения съезда, если Горький, наш самый известный участник съезда, подпишет долговую расписку. Горький сначала согласился сделать это, а затем, после того как его отозвали в сторонку какие-то большевистские лидеры для того, чтобы шепотом посовещаться, он сообщил нам, что подпишет ее только в том случае, если Центральный комитет партии, который должен будет избираться в ходе съезда, будет состоять из большевиков.