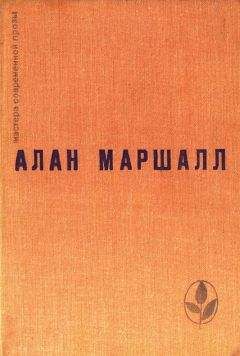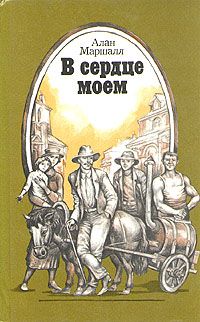незатронутыми. В последующие годы я перестал обращать внимание на свои ноги. Они вызывали у меня озлобление, хотя иногда мне начинало казаться, что они живут обособленной, горькой жизнью, и тогда я испытывал к ним жалость. Руками же и грудью я гордился, и со временем они развились вне всяких пропорций с остальными частями тела.
С минуту я постоял в неуверенности, глядя куда-то вперед, — туда, где виднелась голая полоска земли, затерявшаяся в траве.
Я решил непременно добраться до нее и выжидал, не зная, какие именно мышцы нужно призвать на помощь. Я чувствовал, что костыли впиваются мне в тело, и понимал, что, если я хочу пойти, надо выдвинуть их вперед и на минуту переместить всю тяжесть моего тела на «хорошую» ногу.
Доктор отвел руки, но был наготове, чтобы подхватить меня, если я начну падать.
Я приподнял костыли и тяжело выбросил их вперед; плечи мои подпрыгнули при внезапном толчке, когда всем весом я снова налег на костыли. Затем я выбросил вперед свои ноги, — правая волочилась по земле, поднимая пыль, словно сломанное крыло. Я остановился, тяжело дыша, не спуская глаз с полоски земли перед собой.
— Хорошо! — воскликнул доктор, когда я сделал этот первый шаг. — А теперь еще…
Снова я повторил те же движения, и так три раза, пока, изнемогая от боли, не очутился на заветной полоске. Я дошел.
— На сегодня довольно. Садись-ка снова в кресло, — сказал доктор, завтра попробуем еще.
Через несколько недель я уже мог ходить по саду, и, хотя мне порой случалось падать, я поверил в себя а стал даже практиковаться в прыжках с веранды, проверяя, на какое расстояние от проведенной по дорожке черты могу я прыгнуть.
Когда мне сказали, что меня выписывают, что завтра за мной приедет мама, я не почувствовал того волнения, которое, как мне казалось, должно было вызвать это известие. Больница постепенно сделалась фоном, который неизбежно сопутствовал всем моим мыслям и действиям. Жизнь моя вошла здесь в определенное русло, и я смутно понимал, что, выйдя из больницы, утрачу то чувство уверенности и спокойствия, которое я в ней приобрел. Расставание с больницей меня немного пугало, но в то же время мне очень хотелось увидеть, куда ведет улица, проходившая мимо больничного здания, и что делается за холмом, где пыхтели маневрировавшие паровозы, лязгали буфера вагонов и взад и вперед сновали экипажи с людьми и чемоданами. И я хотел снова увидеть, как отец объезжает лошадей.
К тому времени, когда за мной пришла мать, я уже был одет, сидел на краю постели и смотрел на пустое кресло, в котором мне уже больше не придется кататься. У отца на покупку такого кресла не хватило денег, но он соорудил из старой детской коляски длинную тележку на трех колесах, н в ней мать собиралась довезти меня до трактира, где отец оставил нашу повозку, пока сам отводил подковать лошадей.
Когда сиделка Конрад поцеловала меня на прощание, мне захотелось расплакаться, но я удержался и только подарил ей все оставшиеся яйца и несколько выпусков газеты «Боевой клич», а также перья попугая, которые мне принес отец. Больше у меня ничего не было, но она сказала, что и этого довольно.
Старшая сестра погладила меня по голове и сказала матери, что я храбрый мальчик и как это удачно вышло, что я стал калекой еще маленьким: мне будет нетрудно привыкнуть к жизни на костылях.
— Дети так легко ко всему приспосабливаются, — уверяла она мать.
Мать не сводила с меня глаз, и видно было, что она слушает сестру с глубокой грустью; она ей ничего не сказала в ответ, и это показалось мне невежливым. Сиделки помахали мне на прощание, а Папаша пожал мне руку и сказал, что я его никогда больше не увижу: он может умереть в любую минуту.
Укутанный в плед, я лежал в своей коляске, сжимая в руках маленького глиняного льва, подаренного мне сиделкой Конрад.
Мать покатила меня вдоль улицы по тротуару, на холм. За ним вовсе не было тех чудесных вещей, какие, мне казалось, должны были там таиться. Дома ничем не отличались от других домов, а станция была простым сараем.
Мать спустила коляску с обочины в канаву и уже втащила ее на другую сторону, когда одно из колес соскользнуло с края мостовой, коляска опрокинулась, и я упал в канаву.
Я не видел, как мать пыталась приподнять придавившую меня коляску, и не слышал ее тревожных вопросов, не ушибся ли я. Я был поглощен поисками глиняного льва, и скоро нашел его под пледом, но, как я и опасался, уже без головы.
На крик матери подбежал какой-то мужчина.
— Помогите мне поднять мальчика, — сказала она.
— Что с ним случилось? — воскликнул тот, быстро подняв коляску. — Что с мальчонкой?
— Я опрокинула коляску. Осторожней!.. Не сделайте ему больно: он хромой!
Это восклицание матери заставило меня опомниться. Слово «хромой» в моем представлении могло относиться только к хромым лошадям, оно означало полную бесполезность.
Лежа в канаве, я приподнялся на локте и посмотрел на мать с изумлением.
— Хромой, мама? — воскликнул я возмущенно. — Почему ты говоришь, что я хромой?..
Слово «калека» в моем представлении можно было отнести к другим людям, но никак не ко мне. Однако мне все чаще приходилось слышать, как меня называют калекой, и я в конце концов вынужден был признать, что подхожу под это определение. Но при этом я твердо верил, что, хотя другим людям такое состояние причиняет неудобства и огорчения, мне оно нипочем.
Ребенок-калека не понимает, какой помехой могут стать для него бездействующие ноги. Конечно, они часто причиняют неудобства, вызывают раздражение, но он убежден, что они никогда не помешают ему сделать то, что он захочет, или стать тем, кем он пожелает. Он начинает видеть в них помеху, лишь если ему говорят об этом.
Для детей нет никакой разницы между хромым и здоровым человеком. Они могут попросить мальчика на костылях сбегать по их поручению и ворчат, если он сделал это недостаточно быстро.
В детстве бездействующая, ставшая бесполезной нога не вызывает стыда; лишь когда научаешься распознавать взгляды людей, не умеющих скрывать свои чувства, появляется желание избегать их общества. И — странная вещь — такие откровенно презрительные взгляды исходят только от людей со слабым телом, всегда помнящих о собственной физической неполноценности. Сильные и здоровые люди не сторонятся калеки — его состояние слишком далеко от их собственного. Только те, кому грозит болезнь,