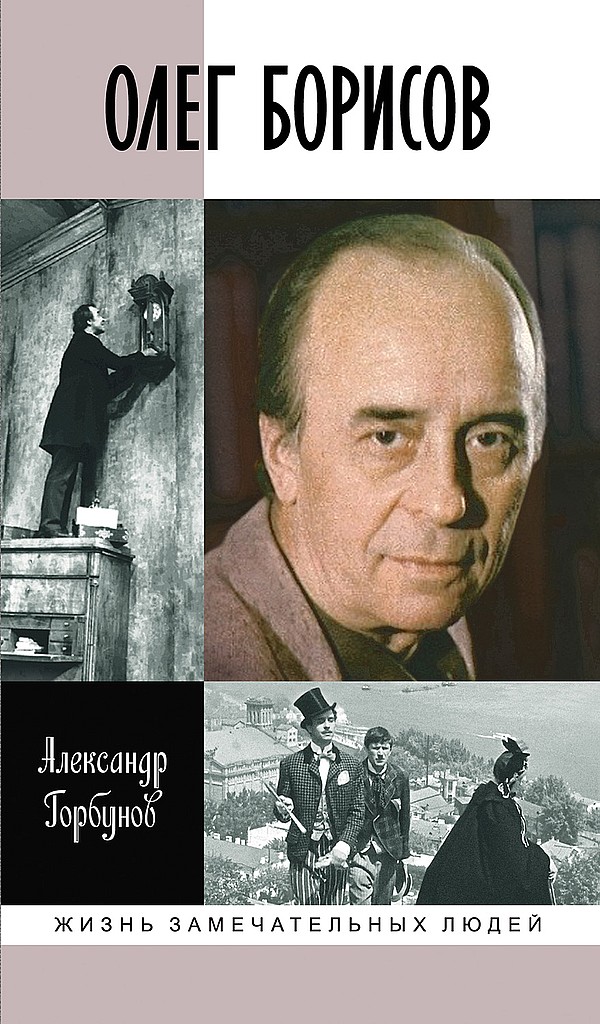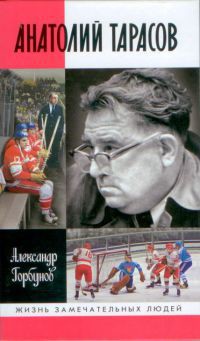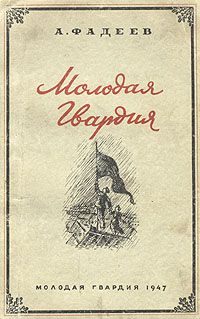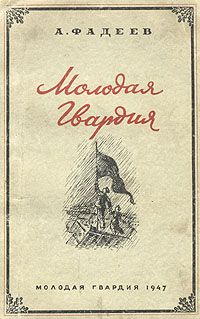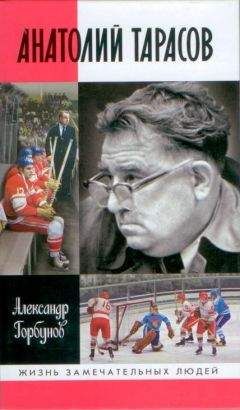шли по Крещатику, переходили улицу, сворачивали в Пассаж и поднимались в квартиру Некрасова. Его мама, Зинаида Николаевна, прекрасный детский врач, тут же приступала к разговорам с Юрочкой, а Виктор Платонович и Олег усаживались за стол (Некрасов перед походом отца и сына звонил и информировал: «У меня есть капуста, у меня есть поллитра…») и вели свои неторопливые беседы.
В квартиру на бульваре Шевченко Алла и Олег въехали практически без ничего, без всякой мебели. От родителей Алла получила «в наследство» полспальни: зеркало, кровать и «шкап».
«Мы, — рассказывал Олег, — уже что-то себе подыскивали, но на то, что нравилось, не хватало денежных средств. Алла уезжала в Москву (предстояли игры КВН, она ездила от Молодежной редакции Киевского ТВ) и грустно доложила на семейном совете: „Видела чешский гарнитур — их всего двадцать штук. Разбирают… С угловой тахтой, журнальным столиком (все это тогда было в диковинку!). Позвони Халатову, может, денег одолжит“. Сказала — и уехала. Я Халатову позвонил, у него действительно водились деньги. А он весело: „Мима, Олег! Ми-ма!“ (Значит, сейчас нет и не проси.) Решился позвонить Некрасову. Он в трубку: „Дам. Правда, у меня на срочном вкладе. А сколько надо?“ А надо было тысяч двадцать старыми деньгами (до реформы 1961 года. — А. Г.)… Алла вернулась через два дня, а гарнитур уже стоял в комнате!»
Виктор Платонович принимал живейшее участие в расстановке: «Аллочка, нет мебели красного бархата, кровати с блестящими шишечками, бронзовой лампы с абажуром, лучших на свете шкапов с книгами, пахнущих таинственным старинным шоколадом, нет с соколом в руке Алексея Михайловича… (Он описание комнаты Турбиных знал наизусть, Олег его не раз просил еще повторить — уж больно ласкало ухо. Он потрясающе это „озвучивал“ — то как пролетарский грузчик, готовый все выбросить из окна второго этажа, то как оценщик перед аукционом.) Ничего, Аллочка, когда-нибудь и у вас будет Людовик Четырнадцатый, нежащийся на берегу шелкового озера в райском саду… Я предлагаю эту не уступающую по красоте чешскую meubles срочно обмыть!»
Когда Борисов приехал в Ленинград, Некрасов уже ждал его: «Вечером это нужно отметить, это действительно большое событие в твоей жизни. Надо только, чтобы ты понравился Венгерову, а то Кешу Смоктуновского они не утвердили». — «А что, Смоктуновский на мою роль?» — «Нет, на Митясова… Так вот, я предлагаю сейчас сходить в Елисей и купить все на вечер. А потом немножечко походить по городу».
«Немножечко походить» растянулось на целый день. Начал Некрасов с пластиночного магазина. Он попросил девушку-продавщицу поставить ему «Симфонию № 5, сочинение 64 ми минор, великого русского композитора Петра Ильича Чайковского (он сказал это, заметил Олег, „пренеприятным голоском диктора, который обычно так объявляет в концерте“), только один небольшой фрагмент из Andante cantabile». Продавщица была с ним подчеркнуто вежлива. Борисов подумал, что, если бы на его месте находился он, она наверняка бы начала хамить: «Чего это вы вздумали в магазине слушать? Если берете, так берите и слушайте дома…»
— Но нужно, — писал Олег Иванович, — учитывать два важных обстоятельства: во-первых, я не в Киеве, а, во-вторых, разговаривает она не со мной, а с Некрасовым, потомственным дворянином, на котором есть печать чего-то завораживающего, от которого свет исходит, почти сияние, особенно это заметно сейчас, когда он закрыл глаза и погрузился в музыку: «Вот это место… Точно вскрик. Правда? В финале будет не так. Та же мелодия, но не так. Вы любите Пятую?» Я (задумчиво): «Люблю». Некрасов: «Я тоже. Сейчас вальс будет. Давайте помолчим». И мы на какое-то время замираем. Я гляжу в окно магазина: там Невский, все не ярко-зелено-каштановое, а молчаливое и строгое — совершенно другая цивилизация… Платоныч вдруг начинает посмеиваться: «А ты знаешь, что мы сейчас разыграли сцену из моего ‘Сталинграда’? Я говорил, как будто я Фарбер, а ты как будто Керженцев. Я люблю делать такие эксперименты, правда, хорошо получилось?» У меня в голове все помешалось: Andante cantabile, оставленные дома Алена и годовалый сын, мой крестный отец Некрасов, который, как слепого котенка, погружает меня в мировую культуру. Заходим в первую же рюмочную, выпиваем за Петербург…
Мы шли уже по Сенной, и Некрасов вдруг остановился как вкопанный. Он вообще имел привычку идти и вдруг ни с того ни с сего встать посреди дороги. «А ведь точнее и не скажешь… унылая нация. Достоевский говорил, что вторичная. Вторичная — да еще и унылая!.. А сама ситуация у гусарика у этого!.. бррр!.. Пробираешься в дом к своей любовнице под видом кухарки — унижение-то какое! — да тебя еще застают не в постели, а во время бритья! Я бы врагу не пожелал. Хотя и у Чертокуцкого ситуация не лучше. Назвал в свой дом гостей, проспал, а потом спрятался в коляску, когда они все заявились… И вот он сидит, изогнувшись, притихши, в этой самой колымаге и видит через фартук, как они к нему подбираются, отстегивают кожу… Боже, в окопах и то не такой ужас…» Мы заходим еще в одну рюмочную и выпиваем «светлую память Пифагора Пифагоровича Чертокуцкого». Останавливаемся на Кокушкином мосту. (Маленький пешеходный мостик через канал Грибоедова.) «Если хотите, милый Олег, чтобы у вас хорошо завтра прошла проба, мой вам совет: прислонитесь спиной к этому граниту, загадайте желание и постойте… говорят, помогает. Помните пушкинское приложение к ‘Альманаху’:
Вот перешедши мост Кокушкин,
Опершись ж…й о гранит…
Я тогда ничего подобного не слыхал и попросил Некрасова вспомнить что-нибудь еще. „Это ты будешь Венгерова просить, он всего Пушкина знает. Сам был свидетелем, как он половину ‘Онегина’ наизусть читал“…»
Вечером они сидели в гостинице, и Олег случайно назвал Некрасова своим «гросфатером». Он сначала удивился, потом снисходительно поморщился: «Ну, уже и гросфатер. Старый дед, значит. У нас хоть и есть разница в возрасте, но я тебе, дружище Олег, только в отцы. И потом — какой из меня немец, меня чаще итальянцем называют…»
«Некрасов, — можно прочитать в дневнике Борисова, — действительно очень похож на какого-то итальянского артиста, кажется, на Тото (итальянский комедийный актер. — А. Г.) из пазолиниевских „Птиц больших и малых“. И он так же, как и Тото своего Нинетто, учит меня жить. Однако мне тоже хочется показать образованность, и я начинаю рассказывать про княгиню Волконскую, которая преподавала нам манеры, про сценическое движение… Я ведь по танцу подавал надежды. Меня даже пришли смотреть из народного ансамбля и еще в оперетту звали. Гроссфатер из „Щелкуна“ у меня особенно получался — эта козлиная смена двухдольного размера на трехдольный. „Покажи“, — тут же потребовал Некрасов. Я что-то изобразил на ковре. Пьяный, говорил