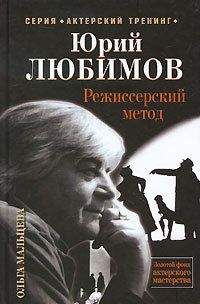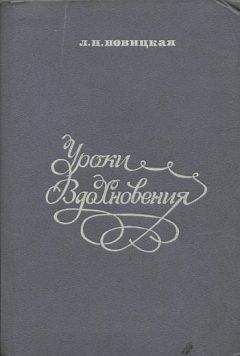Вот случай, позабавивший однажды нас на одной из оркестровых репетиций «Садко». Что-то взбесило Николая Семеновича — грозный взгляд из-под бровей на сцену, там никого, кроме спокойно сидящего на бел-горюч камне Садко — Нэлеппа. Но на кого-то необходимо вылить раздражение. На кого? И вдруг мы слышим гневный и в чем-то уличающий голос Голованова, адресованный всегда подтянутому и мобилизованному «Жоржу» Нэлеппу:
— Сидишь?
Нэлепп, вспыхнув, шипит:
— Сижу. А что?
— А ничего. Сидишь — и сиди.
— И сижу.
— Ну и сиди!
— Ну и сижу!
Пауза… Конфликт явно заходил в тупик. Объект для «разноса» был неподходящий. И вдруг, как гром с неба, как отмщение и проклятие всему миру, голос Голованова возвестил: «Весь акт с начала!»
Мы с Федоровским едва не свалились под стулья от смеха. «Отыгрался!»
За пультом Николай Семенович появлялся за пять минут до начала репетиции. Садился и давал вступление. Выяснялось, что кого-то нет на месте. Крик, переполох, поиски помощников режиссера, которые в подобных случаях куда-то скрывались. В конце концов привыкли к тому, что за пять минут всем лучше быть на месте, готовыми к работе, чем получать нагоняй. Подобное начало репетиции пришлось мне по душе. Я заразился этим на всю жизнь, и тот факт, что репетиция задерживается хотя бы на одну минуту, невыразимо меня злит и оскорбляет.
Простой производственный урок, но его пользу невозможно переоценить, в нем есть для меня что-то магическое. Дело не в педантизме, а в энергии, которая передается в этом случае репетиции. Если ее можно начать на минуту или на пять минут позднее, значит можно и на полчаса опоздать. Из этого следует, что репетицию не ждут, к ней не готовятся, ей нужна раскачка. Участники и руководитель не преисполнены жажды ее начать, а то и просто заинтересованы ее оттянуть.
Нет, это был не педантизм Голованова, а его натренированная творческая воля! Приучив себя к этой головановской привычке, я много выиграл в творческом процессе. Начинать репетицию после ожидания опаздывающих, «глубокомысленных» размышлений, считаю опасным и непрофессиональным. Пустяк? Нет — принцип! Воля! Вот чему нужно было учиться у Голованова. Вот что позволило ему за сравнительно короткий срок довершить работу по «Борису Годунову», осуществить «Садко» и «Хованщину». И все эти спектакли были по тому времени сверхмонументальными, предельно масштабными, оставившими серьезный след в репертуаре театра.
В искусстве он был максималистом: если нужен хор, то девяносто человек ему мало, добавляется хор из филиала. На сцене сто пятьдесят человек, а он кричит: «А где народ? Почему пустая сцена?» Если в партитуре написано forte, то создавалось впечатление, что звукам тесно в зале. Они, как лавина, обрушивались на каждого, подавляли своей мощью. Я сам видел, как во время исполнения «Поэмы экстаза» Скрябина в Колонном зале во время кульминации публика встала, физически поднятая волной звука.
Во время полонеза в «Борисе Годунове» поднимался такой грохот и треск, что в последующей сцене у Василия Блаженного публика поневоле замирала от трагической статики, мрачных предчувствий и сосредоточенности момента. Контрасты — великая сила драматургии. Значение резких контрастов я тоже понял благодаря Голованову.
А насчет грубости Голованова — вот вам пример. Во время постановки «Садко» произошел курьезный случай, очень типичный и характерный для Николая Семеновича. Однажды из-за вечернего спектакля он не пришел на мою репетицию с хором. (В отличие от Самосуда он на репетициях никогда не позволял себе вмешиваться в работу режиссера.) На другой день прохожу мимо дирижерской комнаты и слышу головановский голос, разносящий в пух хормейстеров и ассистировавшего ему дирижера.
— Где вы были? Что смотрели? Почему не помогли? Почему его не предупредили?
— Мы говорили, он не слушает, — спасается хормейстер. Поняв, что речь идет обо мне, возмущенный вхожу в комнату.
«Это ложь, никто мне ничего не говорил. И что это за разговоры за моей спиной? Это в конце концов…» Николай Семенович сразу начинает меня успокаивать и извиняться, как будто не он шумел минуту назад. Оглянувшись, я увидел, что хормейстеры и дирижер из комнаты удрали. Николай Семенович стал меня уговаривать: «Не надо волноваться, это пустяки, недоразумение, вообще нехорошо в театре повышать голос, надо сдерживаться. Мало ли что бывает, ошибки всегда могут быть».
— Ошибки? — я вновь взорвался и успокоился только тогда, когда понял курьезность положения.
Николай Семенович заметил в сцене «Торжища» группу альтов, молча стоящую на заднем плане и занимающуюся своим торговым делом, — сцена-то была «Торжище». «Почему они не поют?» — ополчился он на хормейстеров. Те решили, что благом будет свалить все на меня: предупреждали, мол, не слушает, увел альтов от массы хора и не позволяет им петь. Никому не пришло в голову проверить по клавиру, должны ли они в этом месте оперы петь. У них была большая пауза, которой я воспользовался. Конфуз! Но как меня тронуло, когда я узнал, что Николай Семенович в тот же день позвонил в поликлинику с просьбой следить за мною: «Он переутомился, стал вспыльчив, сильно нервничает! Надо помочь!»
Вот каким был Голованов. Часто вспоминая о нем, я замечаю, как теплее становится на душе. Правда!
Забегая вперед, скажу о дорогом для меня, хоть и не относящемся к искусству воспоминании. На генеральной репетиции «Садко» в одном из первых рядов партера оказались две пожилые женщины. Они долго присматривались друг к другу, и вдруг — обнялись: «Лиза Стулова! Оля!» Оказывается, встретились две гимназические подруги — моя мать и сестра Николая Семеновича. Когда об этом узнал Голованов, он со свойственной ему решительностью и безапелляционностью заявил: «Я говорил, что он (то есть я) приличный человек!» Это же очаровательно, проработав со мной бок о бок почти год, вдруг произнести такую сентенцию!
У этого человека было много обаятельных по своей наивности особенностей. Рукава пальто и пиджака были всегда коротки, подшивали их, что ли? На своем открытом лице русского мужика он почему-то… рисовал карандашом брови! Проводил две решительные черты над глазами, они всегда были на разных уровнях, одна выше, другая — ниже. Может, он делал это для того, чтобы придавать себе грозный вид?
Он был абсолютно современным человеком, с общественной жилкой, с твердым убеждением в силе коллектива, необходимости участия общественных организаций в творческом процессе. Но, выражая свои идеи, пользовался такими допотопными формулировками, что все звучало странно, даже анекдотично. Я сам слышал: «Без помощи большевистской ячейки мы спектакля не одолеем!» (Это в 1953 году!) Или: «При царе этого лодыря прижучили бы!» И все это в решительных интонациях. Кстати, он почему-то часто говорил «при царе», а много ли он помнил об этом времени?