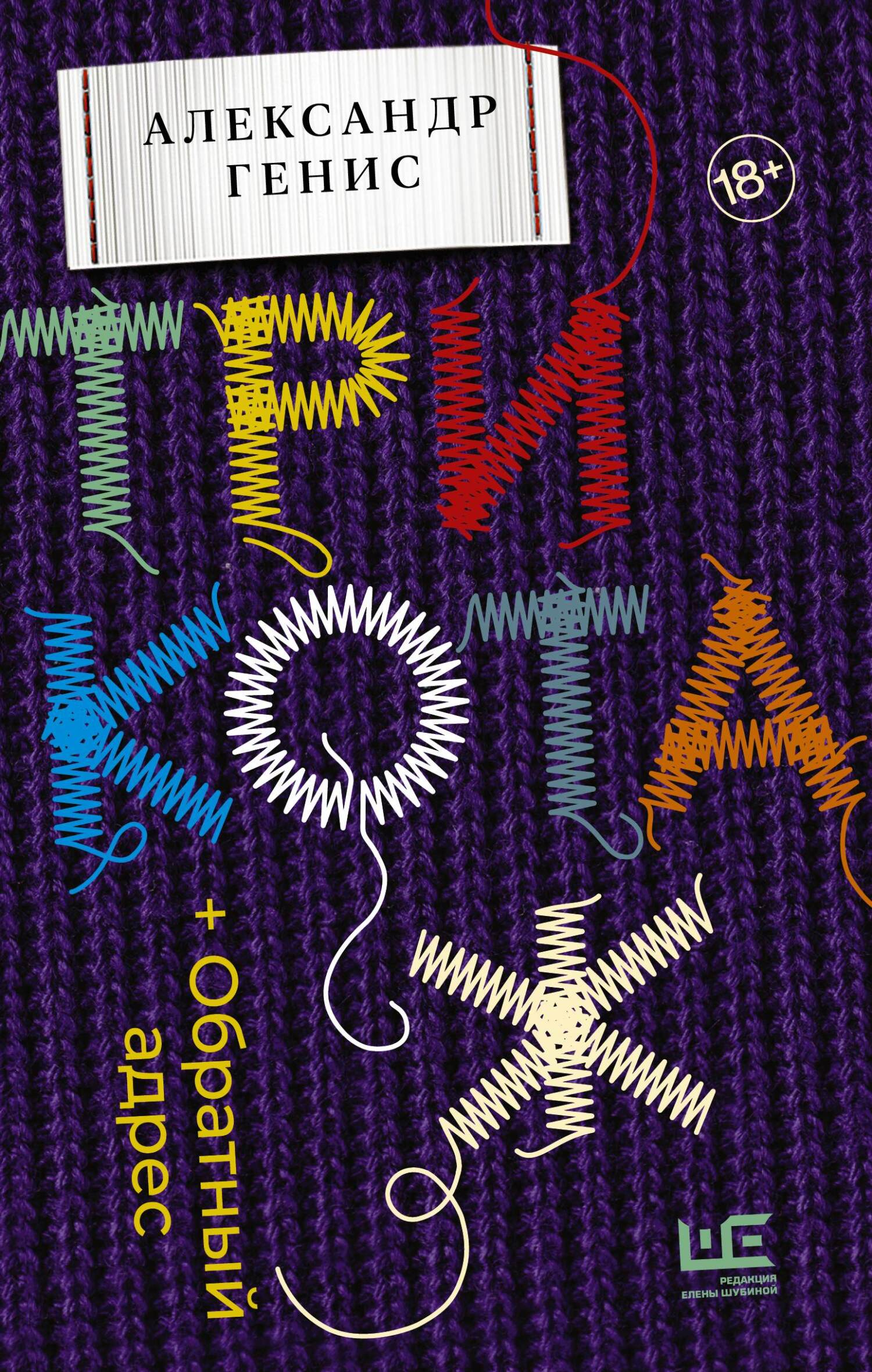искусство стало не твоим, а тобою.
Со мной это случилось на приморском бульваре. До меня по нему проехал открытый “ЗиМ” с еще жизнерадостным Хрущевым. Толпа уже рассосалась, но дворники еще не рискнули прибрать плоды ее энтузиазма – букеты дешевых в летнюю пору левкоев.
Как обычно, мы с отцом выбрались на урок. Он держал велосипед, а я на него взбирался. Как только отец разжимал руки, я падал назад, если дорога шла вверх, вперед, если она спускалась, и на бок, если улица была прямой. Но в тот ослепительный день меня подхватила остаточная волна народного восторга, и я впервые ринулся вперед, подминая собой цветы, как будда. Забыв страх, я мчался к счастью, зная, что оно не там, куда я качу, а в том – на чем.
Научив всему, что умел, отец перестал обращать на меня внимание. Поделив жизнь между своими и чужими пороками, он не знал, чему отдать предпочтение. За него решила природа. Летом отец грешил сам, зимой следил, как это делает правительство. В его маслянистых глазах власть обладала нестерпимым обаянием – как выгребная яма, куда мы заглядываем с тайным любопытством, зная, что хуже не бывает.
Дожидаясь лета, отец оскорблял режим, выпивая с диссидентами. Один из них остановил часы в моей спальне. Другой научил раскладывать пасьянс. Третий стеснялся сдавать бутылки. Все они звали Солженицына “Солжом”, и к концу любой фразы прибавляли: “Вы же понимаете”. Отец кивал головой – лето еще не наступило.
Так продолжалось до тех пор, пока я не вырос – настолько, чтобы предоставить ему алиби. Мы собрали рюкзаки и отправились на Запад, чтобы посетить государственную границу, пересечь которую уже мечтали, но еще не решались. В те времена она проходила по гористой местности, которую считали своей сразу все народы предыдущей империи. Из них чаще всего попадались цыгане, охотно принимавшие нас за своих. Остальных отец покорял Высоцким. Только наизусть он знал сто песен и редко останавливался, не исполнив их все.
Распевая, как Швейк по пути в Чешские Будейовице, мы странствовали по горам, пока не добрались до братской – других не было – границы. За рекой начиналась Европа, правда, порченная коммунизмом. В виду ее мы раскинули палатку. Ночью нас разбудили танки.
Я никогда не видал войны и не мечтал в ней отличиться, хотя и уважал Александра Македонского как тезку. Может, поэтому танки мне не понравились. Тупо, как лемминги, они шли гуськом к воде по узкой австро-венгерской дороге.
– Смотри, – сказал отец, – вот лицо твоей родины.
Он гордился тяжестью ее преступления, о котором скоро забыл, встретив смешливую блондинку – август еще не кончился. Но для меня – по малолетству – урок не прошел даром, и следующую родину я выбирал с пристрастием. Чаще всего – в музее.
Дело в том, что мне всегда хотелось уйти из этого мира. Я даже не могу сказать, чем он мне не нравился, кроме того, что он этот, а хочется того.
Я догадывался, что мир возможен только потому, что он случаен и непредсказуем. Я знаю, что по расписанию ходили только поезда при Муссолини. Умом я понимаю, что Богу свобода нужнее. Но это не мешает мне мечтать о рабской вселенной, высекшей прошлое и будущее на своих скрижалях, чтобы никогда ничего не менялось, чтобы все уже свершилось, чтобы дни, как звезды, застыли на исконно предназначенном им месте.
Возможно, так оно и есть, но я не знаю об этом, ибо благоволящая к нам природа не дает заглянуть в какую-нибудь будущую пятницу, где я не торопясь умираю от старости. За эту доброту мы расплачиваемся сюрпризами. Раньше я считал, что они могут изменить жизнь. Теперь думаю, что ей лучше б не меняться. Поэтому я и полюбил сидеть в музеях. Пристроившись в уголке, я с завистью пялюсь на запертую в рамках жизнь. Прежде мне нравились пейзажи – сперва городские, потом – безлюдные, хотя можно с коровами.
Выбрав картину по вкусу, я впиваюсь в дорожку и жду, пока она не поведет меня за собой – в спертый воздух холста и масла. Прикинув время года, направление ветра и угол подъема, я медленно карабкаюсь по полотну, стараясь забыть дорогу обратно. Когда это удается, я начинаю различать запахи – чаще неприятные, и звуки – всегда приглушенные.
Беда в том, что, разглядывая окружающее, я никогда не вижу в нем себя. Вот почему я перебрался в натюрморты. Учась у мертвой натуры, я пытаюсь избавиться от души. Предметом быть проще. У него нет содержания, одна форма, обычно – простая. Да и дел у вещей немного: быть собой, оттеняя друг друга в той несложной драме, которую разыгрывает из них художник. Короче, это работа по мне. Но у меня не получается думать, как стакан или слива, потому что они не думают вовсе. Этому можно научиться только у трупа, а до этого все еще далеко.
– Небытие – вид инобытия, – говорит Пахомов, – поэтому тебя туда и тянет.
Сам он и смерти не боится, и жизни не радуется. Не видя между ними особой разницы, Пахомов и учит меня безнадежности.
– У Бога, – говорит он со знанием дела, – нет выхода. Он может быть лишь тем, кем Он есть, потому что остальные роли отданы безбожникам. Богу не повезло – Он загнал себя в угол полнотой своего бытия. К тому же, он не может обойтись без человека. Без нас он не Творец, а с нами – страдалец. Бог не может создать человека добрым, ибо это лишило бы нас свободы. Добро, лишенное выбора, безжизненно, как полено. Отпустив нас на волю, Бог уже не может нам помочь. Он обречен страдать, глядя на муки им сотворенного, потому что Бог без любви был бы неполноценным кастратом. Вот и посуди, чем этот немой обрубок лучше нас? Я не говорю, что Его нет. Я говорю, что Он тебе не нужен. Он и себе-то не очень. Но Ему деваться некуда, а у нас есть выход.
Пахомов ласково посмотрел на меня, надеясь, что я тут же этим выходом и воспользуюсь. Но я отложил окончательное решение вопроса, надеясь найти прореху.
– Ты, Пахомов, давишь на логику. Но что Богу софизмы? Да и не верю я в твоего Бога. Я верю только в мгновенье. Если извести время в такую мелкую пыль, что в нее не влезет страдание, мы будем спасены от боли. Она прячется в