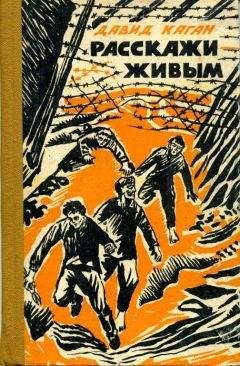— Летчик, несколько раз бомбил Восточную Пруссию. В ноябре его самолет подожгли. Из-под Кенигсберга добрался к Гродно. Тут его поймали, били, допрашивали, потом привезли в лагерь. Он уже доходил в землянке. Взяли в санчасть. Потихоньку стал оживать, сейчас на ногах.
— А немец чего ходит?
— Вот такой немец... Фердинанд его зовут. — Мостовой оглянулся. — Он нам рассказывал про отступление немцев из-под Москвы, про прорыв нашей конницы к Смоленску.
Слушаю и ушам не верю.
— А один раз заговорил с нами про Толстого. У него полное собрание сочинений Толстого на немецком языке. Я, говорит, до войны, пока в армию не взяли, всегда слушал по радио Москву. Ин-тер-на-цио-нал! — и палец ко рту прикладывает. К Лешке привязался, дружат. У нас интересуется, как мы его лечим, не опасно ли он болен, не будет ли заражения. Иногда колбасу принесет своему приятелю, иногда — сигареты. Сидят на нарах рядом, объясняются кое-как.
Захотелось получше рассмотреть немца, зайти вместе с Мостовым к летчику, поговорить с ним. Может быть, подождать, пока солдат уйдет? Но нет, уже поздно. Я поднялся уходить.
— Вы нам камфары и кофеина дадите? Бинтов нет, ваты...
— Камфары и кофеина остались считанные ампулы. То, что наши при отступлении оставили, тем и живем. Немцы своего почти ничего не дают. Пришли завтра Ивашина, несколько бинтов получит. А ты не торопись уходить! Можешь здесь остаться ночевать.
— Надо идти.
Не хочется возвращаться в свою землянку, тут все-таки лучше. Может послушать совета Мостового, остаться здесь на ночь? Но вспомнил фельдшера, санитара-доцента. А они, что, хуже меня? А больные?
Я уже привык к плохому сну, когда всю ночь ворочаешься и с нетерпением ждешь утра. Коротать ночь помогают санитар и фельдшер, вызывая к больным. Днем, при обходах, перевязках на время покидают мысли об этом проволочном мешке, в котором все обречены.
Ночь кончается. Бледнее светят электрические фонари, не искрится отраженным светом лед в окошке. Светает... Чаще скрипит дверь, люди выходят, возвращаются, некоторые, кто покрепче и хотят помыть лицо и руки, приносят котелки со снегом.
На многое уже нагляделся и перестал удивляться, но такое увидел впервые. Стоит около землянки человек, спустив брюки и кальсоны до колен, и шаркает рукой по худым бедрам, по одежде, счищает что-то, стряхивает. Ночью шел снег, все белым-бело. Только вокруг пленного, что стоит с голыми бедрами, снег какого-то серого цвета, словно грязное пятно. Не поверив своей догадке, подошел ближе. Снег потемнел от множества вяло шевелящихся точек. Вши?! Вши его съедают заживо! — содрогнулся я.
Вечером снова направился в санчасть, захотелось хотя бы полчаса посидеть при электрическом свете, узнать что-нибудь новое. Но не успел поздороваться я сесть, как вошел унтер-офицер из комендатуры. Высокий, здоровый, фуражка немного на бок, усики как у Гитлера, коротко подстрижены. Лет сорока-сорока пяти. Бравирует, ходит в мороз без шинели, в одном мундире. Осмотрев нас, открыл дверь к больным, заглянул туда и снова закрыл. Поскрипывая новыми сапогами, приблизился к столу, щелкнул портсигаром, закурил. Картинно засунул одну руку за пояс и, держа в другой руке папиросу, вступил в разговор.
Я стараюсь не смотреть на него. Немец противен и страшен своим видом, напоминающим самого Гитлера, и еще тем, что чисто говорит по-русски. Оказывается, долго жил в Советском Союзе, был арестован за какие-то дела, а в 1939 году, когда заключили договор, ему разрешили уехать в Германию. Он еще помнит прошлую войну, развал царской армии, разруху.
Э-эй, Самара, качай воду,
Де-зе-р-ртирам дай дорогу! —
несколько раз повторяет он и заливается смехом, распространяя вокруг себя запах вина. Оставив воспоминания о России, он пересел на своего любимого конька: как поступить с евреями?
— Стариков и детей — и-и-их! — энергичный жест пальцем по шее, — на мусор. А работоспособных — в Сахару. Пусть они там докажут свое право на существование!
Когда он ушел, какая-то неловкость мешает заговорить друг с другом.
— Да плюнь ты на него! — Мостовой старается приободрить меня. — Он уже раз приходил сюда. А сегодня, наверно, Фердинанда выслеживает.
Дверь из помещения, где лежат больные, открылась.
— Заходи, Леша! — крикнул Мостовой.
Больной шире раскрыл дверь, но так в остался стоять за порогом. Рослый, русые волосы зачесаны назад, на подбородке и шее свежие следы ожогов.
— Нет, сейчас не зайду! Что-то температурю. Курить будете? — кивнул он Мостовому, с трудом вытаскивая перевязанной рукой сигарету.
Они о чем-то поговорили и разошлись.
— Это и есть Лешка-летчик. Ценный парень!
Возвращаюсь в блок под тяжелым впечатлением речей унтер-офицера. Иду медленно, стараясь ступать по узкой тропинке. Стоит шагнуть в сторону, как проваливаюсь глубоко в снег. Ноги намокают. Ветер метет по обледенелой корке снежного покрова, собирает узкими грядками выпавший вечером, еще не улегшийся снег. И морозно и сыро. Легкий туман, словно редкий дым, висит на освещенной проволочной ограде. Пустынно. Фигуры часовых сквозь дымку тумана кажутся безжизненными призраками. Будто все это не наяву, а в каком-то тяжелом сне. Сходство часовых с призраками усиливается оттого, что головы покрыты остроконечными башлыками, а у некоторых — платками. Где-то я подобное видел или читал... Было где-то такое... Да, вот: инквизиция, остроконечные капюшоны, маски... Оступился, и острая боль в ране подчеркнула реальность окружающего.
Утром поднялся с тяжелой головой. Идти за снегом, чтоб умыться, неохота. Жизнь... Нет, не жизнь, а смерть идет своим чередом. Опять слышен топот ног по дороге к траншеям, одного за другим несут умерших. «Сегодня ты несешь, а завтра тебя...» Если умершего не волокут за ноги и руки, а несут на плечах, то кажется, что он еще жив. Руки оттопырены в сторону или свисают вниз, но окоченевшие, они полусогнуты, пальцы скрючены. Мертвый машет кому-то рукой, не то прощается, не то грозит. А может быть, хочет ухватиться руками за что-нибудь, остановить несущих, чтобы не быть брошенным в ров.
В землянке у Адамовича на лавке лежит больной и тихо стонет.
— Нарыв у него на бедре, — говорит Адамович, — Никак не прорвется. Посмотрите вы!
Когда нарыв был вскрыт и вышел гной, в ране показалось металлическое полукольцо. Ухватив его пинцетом, вытаскиваю.
— От гранаты, — сказал больной, пересилив боль и вытирая испарину со лба, — Немцы из окопов гранаты бросали.
Освободился поздно. Подходя к своей землянке, остановился, кажется, воздуха не хватает. Глубоко вздохнул, но облегчения не почувствовал. Еще больше закружилась голова, тошнота живым клубком повернулась под ложечкой. Сел на снег. Пульс частый... С трудом дошел до землянки. Головная боль стучит в виски. Простудился, наверно.