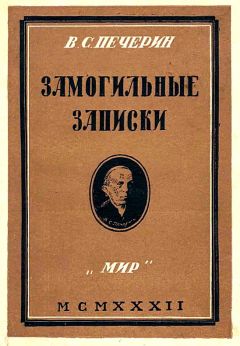Прослушав курс лекций весеннего семестра, 3/15 августа 1833 года Печерин и два его товарища по профессорскому институту пустились в путь. Через Дрезден, Карлсбад, через Швабские Альпы они спустились к Констанцскому озеру и через две недели начали пешеходное путешествие по Швейцарии. Оно заняло около месяца. Достигнув Италии, они посетили Милан, Падую, Верону, Венецию, Рим, Неаполь, а затем, через Вену, Прагу и Дрезден, в начале ноября вернулись в Берлин для продолжения занятий. Помимо писем друзьям, Печерин написал небольшой очерк о своем путешествии по Швейцарии, подписанный псевдонимом «доктор Фуссгенгер» и напечатанный в «Московском наблюдателе» за 1835 год. Очерк этот выдержан в самом сентименталистском духе, но иногда в нем прорывается свойственная романтизму жажда смерти, избавляющая от неизбежного снижения остроты чувств в минуты высшего счастия и экстаза: «Я думал: какое наслаждение – умереть в водах Рейнского водопада! (…) Да, господа: что ни говорите, а смерть прекрасная вещь! Ею красуются народы и неделимые. Самая скучная вещь в мире – это государство, которое не умирает (как напр. Китай) и человек, который живет за 50 лет» (Гершензон 2000: 405)[29]. Сходную мысль о необходимости смерти в расцвете жизненных сил высказывает в более крайней форме и в не столь живописной обстановке вымышленный автор «Записок из подполья», «один из представителей еще доживающего (то есть вступавшего в жизнь в 1820–1830 гг. – Н. П.) поколения»: «Дальше сорока лет жить неприлично, пошло, безнравственно! Кто живет дольше сорока лет, – отвечайте искренно, честно? Я вам скажу, кто живет: дураки и негодяи живут» (Достоевский V: 100). Романтизм, с его подростковой психологией, ставящей себя в центр мира, становится опасным и уродливым, когда его носитель сохраняет инфантильность юноши в зрелом возрасте, он ведет или к саморазрушению, или к ненависти ко всему, что напоминает о неумолимом течении времени, приближающем неизбежную старость, несущем необходимость принимать ответственность, требующем мужества переносить разочарования, которые несет жизнь. Но в двадцать шесть лет, когда сердце жаждет сильных страстей и полного самовыражения, скука еще может казаться самым большим злом.
Второй год в Берлине Печерин провел уже искушенным европейцем. Он начинает на многое смотреть критически. Первое прибежище разочарования – критика окружающих: «С тех пор, как я видел столько французов и англичан, я всей душой ненавижу этих тяжелых немцев, этих porchi tedeschi (свиньи немцы), как их называла одна прелестная венецианка. (…) ничтожный, грошовый народ!» (Гершензон 2000: 405). Пройдет время, и французы заслужат у него не лучшей аттестации.
В этот год Печерин много занимается литературой и театром. Страстную любовь к театру он сохранит навсегда, даже когда, будучи священником, не мог посещать любимые оперные спектакли в Дублине, он был в курсе театральных новостей и сообщал о них в письмах Чижову. Его склонность описывать события и людей в драматической форме становится более осознанной. Гершензон цитирует знаменательное признание, сделанное им в письме: «С некоторого времени мною овладел демон драмы, и я все свои мысли стараюсь выражать в форме разговора» (Гершензон 2000: 409). Потребность выражать свои мысли «в форме разговора» была в нем настолько сильна, что не только автобиографические заметки, но и письма его семидесятых годов, до самого конца переписки с Чижовым, все время сбиваются на построенный диалог – с Судьбой, с адресатом, с предполагаемой публикой в театре. Актерское начало доминировало в нем над литературным, именно оно поможет ему в будущем стать одним из лучших католических проповедников Ирландии. «Надобно вам знать, любезные друзья мои, – пишет он в Петербург, – что я иногда, по воскресеньям, в Гильгендорфском трактире забавляю товарищей моих актерством, чревовещательством и импровизациями (какими – уж не спрашивайте)» (Гершензон 2000: 409). Казалось бы, случайное замечание, шутливый рассказ молодого человека о совсем не исключительном даре имитации и импровизации, весьма распространенном в литературной среде. Но дар импровизации сослужит ему неожиданную службу в будущем. Из огромного количества проповедей, прочитанных Печериным во Франции, Англии и Ирландии за двадцать лет миссионерской деятельности, напечатано будет всего несколько – остальные он, по его собственному признанию, не писал заранее, а импровизировал.
Гершензон проницательно отмечает двойственность внутренней и внешней жизни Печерина, проявившуюся еще в юношеские годы, хотя на этой стороне его характера он не останавливается. Думается, что печеринская двойственность объясняется способностью к искреннему перевоплощению, к игре, которой он сам начинал верить. Товарищи, перед которыми он импровизировал забавные сценки, не подозревали о его «постоянной привычке думать и воображать все по книжке», как сказал о себе тот же подпольный герой Достоевского. Все книжные примеры, все убеждения требовали от Печерина активного служения идеалу свободы, требовали борьбы, а его внутренняя природа склонялась к поиску шиллеровского «чудесного исхода, сладкого покоя». Страх жизни гнал его в архивные разыскания, в монашескую келью, мысль о борьбе привлекала не результатом победы, а необходимостью жертвы и гибели. Героическая гибель обещала вместе желанную славу и не менее желанный покой. Образы смерти и блаженства неразрывны в его стихах. На петербургском «балике» Печерин познакомился с одной из учениц Смольного института, где Никитенко преподавал русскую словесность. Она как-то высказала поразившую Печерина мысль, которую в стихотворении «Бал» он вкладывает в уста собеседницы:
Что жизнь в сей атмосфере хладной?
Как друга, я б желала смерть найти!
В цветущем юности венке отрадно
В могилу свежую сойти!
(Гершензон 2000: 462)
О глазах возлюбленной, кажется именно этой собеседницы, он говорит: «В них бесстрастия могила и блаженства колыбель» (Гершензон 2000: 395).
К письму от 9/21 декабря 1833 года он приложил «Две сцены из трагедии "Вольдемар"» (Гершензон 2000: 413–419). Подобно своему кумиру Шиллеру, местом трагического конфликта Печерин избирает отдаленное географически и исторически место, условную Италию XV века. Объясняется его выбор не только цензурными соображениями – вряд ли Печерин предполагал свое произведение напечатать. Скорее абстрактное место действия отражает абстрактный идеал, которому герой собирается пожертвовать своей жизнью и счастьем возлюбленной. Первая сцена представляет собой стихотворный монолог Вольдемара, в котором он заявляет о своем божественном избранничестве, о том, что сам Бог открыл ему глаза на «неправды сильных, скорбь Его народа» и что с сонмом ангелов он послан «исторгнуть плевелы зла». Поскольку в разрушении, задолго до Бакунина, он видит акт созидательный, герой трагедии ставит себя рядом со Всевышним, совершая тем самым единственно возможный для него выбор между состоянием «твари дрожащей» и человеческого богоравенства.