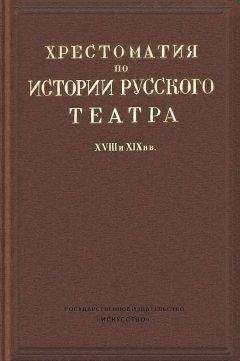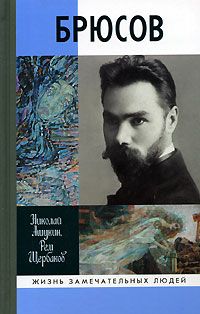В роли Мейнау я видел Плавильщикова, Штейнсберга и Кудича. Первый играл умно и с чувством, но не заставлял плакать подобно Яковлеву; Штейнсберг и Кудич также были хороши, всякий в своем роде; но боже мой, какая разница между ними, и как все они далеко отстали от этого чародея Яковлева!
Я никогда не воображал, чтоб актер без всякой театральной иллюзии, без нарядного костюма, одною силою таланта мог так сильно действовать на зрителей. Дело другое в «Димитрии Донском» или в какой-нибудь другой трагедии, в которой могли бы способствовать ему и превосходные стихи самой пьесы, и великолепная ее обстановка, а то ничего, ровно ничего, кроме пошлой прозы и полуистертых и обветшалых декораций. А костюм Яковлева? Черный, поношенный, дурно сшитый сюртук, старая измятая шляпа, всклокоченные волосы, и со всем тем, как увлекал он публику!
Многие говорили мне, что Яковлев и в самых драмах является трагическим героем. Ничуть не бывало: вероятно, эти многие не видали Яковлева в роли Мейнау. Одно, в чем упрекнуть его можно, — это в совершенном пренебрежении своего туалета. Городской костюм ему не дался, и всякий немецкий сапожник одет лучше и приличнее, чем был на сцене он, знаменитый любимец Мельпомены!
(С. П. Жихарев. Записки современника. Т. II, «Academia», М.—Л., 1934. Стр. 43, 77–79.) 5
Пальма первенства принадлежала Яковлеву. Этот артист был необыкновенным явлением в свое время. Без малейшего образования, он одним художническим чувством успел возвыситься до прекраснейших идеалов поэзии. Он понимал красоту драматических творений и своих ролей. Он выражал их со всею энергиею истинного артиста. Он любил свое искусство, как великий художник; никогда не прибегал к мелочным средствам, чтоб польстить грубому вкусу толпы и выпросить себе несколько аплодисментов. Он играл, как чувствовал, — иногда лучше, иногда хуже, — но всегда с чувством собственного достоинства. Он не был ослеплен непомерным самолюбием, составляющим главный порок актеров; он любил слушать замечания насчет своей игры и рассуждал об этом очень хладнокровно; особливо же любил, чтоб ему рассказывали исторические подробности о его ролях. Лучшими его ролями были тогда:
1. Фингал. В этой роли ни страстей, ни драматической завязки. Тут одна поэзия, — но какая! Особливо в то время стихи Озерова казались волшебными. Да, кажется, и теперь лучших александрийских стихов надобно искать у него. Яковлев был поэт в душе, и превосходно читал Фингала.
2. Димитрий Донской. Яковлев был влюблен в эту роль и играл ее превосходно. Особливо вызов соперника во 2 акте, мрачное отчаяние в 4 и возвращение его с поля битвы в 5 были всегда отлично выполнены. Никто после него не был так сильно и глубоко проникнут ролью Димитрия. Тогда зрители не рассуждали о всех исторических несообразностях этой пьесы, а восхищались прекрасными стихами Озерова, согретыми пламенным чувством любви к отечеству.
3. Из немецких драм принесли Яковлеву наиболее славы: «Волшебница Сидония», «Граф Вальтрон», «Ненависть к людям», «Гусситы под Наумбургом» и «Сын любви». Казалось, Яковлев был создан для немецких пьес. В трагедиях он читал стихи по инстинкту художника, но в драмах, где все было ближе к природе и обществу людей, он, как дитя природы, играл превосходно. Невольные слезы были всегдашнею данью слушателей, — а это самый верный барометр искусства. Как бы высоко ни было оно, но покуда сердце холодно, не верьте артисту: он обманывает вас. Если ж почувствуете, что ресницы ваши влажны, что грудь ваша стеснится, что вы забыли на минуту пьесу и актера, а видели самое происшествие и действующее лицо, — тогда не слушайте пустых аплодисментов толпы и скажите сами себе: это превосходный актер!
К сожалению, блистательный период Яковлева не долго продолжался. Дурные знакомства погубили его, сперва со стороны физической, а после — нравственной и художнической. Бедное человечество! Слабость и несовершенство всегда и во всем! Сколько славы и уважения от современников и потомков предстояло бы многим из художников, если б не слабости и дурные знакомства! Сколько дарований погибло от этого, — а все-таки потомки не умнее предков.
(Р. Зотов. И мои воспоминания о театре «Репертуар русского театра». 1840, т. I, стр. 4.) 6
Актер этот открыл новый элемент зрителям. До него истинные чувства не были знакомы актеру. Все ограничивалось одной пышной декламацией, подогретой поддельным жаром. Яковлев первый понял, что этого недостаточно для искусства… и умел как-то душою сродниться с представляемым лицом, прививал себе его страдания и был всегда так естественно потрясен на сцене, что невольно потрясал своих зрителей.
…В первое время своего блистательного поприща Яковлев не имел средств и возможности осуществить своей прекрасной мысли и дать полный разгул своей кипучей натуре. Принужденный играть в напыщенных пьесах Сумарокова, в трагедиях Расина и Корнеля, действовать на чувство зрителя не голосом души, но картинною позою, могучим словом, он долго ждал своего перерождения. Чувство впервые только заговорило языком Княжнина, а потом Озерова, — и Яковлев тотчас же сделал значительный шаг вперед. Он стал выше своих знаменитых предшественников и учителей, потому что стал не простым ритором, но артистом. Сам Дмитревской, давший ему форму выражения, видел, как кипучая страсть этого атлета разрывала тесные узы этой формы и давала выражению, движениям, голосу новую силу, новый колорит, которые невольно увлекали самого классика-учителя и заставляли сознаваться, что для театра настает новый период. […]
Наконец, наступил прекрасный и счастливый период пьес так называемых мещанских, пьес, где уже не риторика играла первую роль, но где человек выводился с психической своей стороны, где анатомировалось сердце в разных положениях жизни. Вместо пьес, написанных по образцу французскому, явились драмы Коцебу, трагедии Шиллера. На сцене проснулись натура и истинное чувство, и действующие впервые поняли настоящее свое назначение: походить на живых людей, а не на ходячие сентенции. «Ненависть к людям и раскаяние» была тогда любимейшею пьесою публики и совершенным торжеством Яковлева. В ней он поражал сердца зрителей глубоким проникновением в характер Мейнау…
Наступивший затем период английской драмы открыл широкое поле для могучего таланта А. С. Яковлева. Явились «Гамлет», «Отелло», хотя в искаженных переделках Дюси; но Яковлев отыскал в них зерно мысли, алмазы чувства, и роли эти повили его лаврами славы и поставили на степень исторического артиста, познакомившего впервые публику с истинным голосом души, с неподдельною натурою человека.