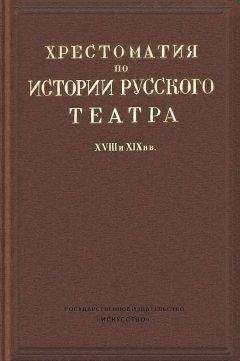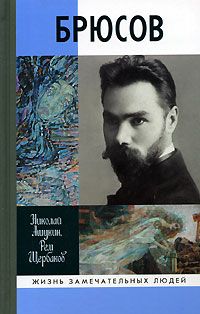Наступивший затем период английской драмы открыл широкое поле для могучего таланта А. С. Яковлева. Явились «Гамлет», «Отелло», хотя в искаженных переделках Дюси; но Яковлев отыскал в них зерно мысли, алмазы чувства, и роли эти повили его лаврами славы и поставили на степень исторического артиста, познакомившего впервые публику с истинным голосом души, с неподдельною натурою человека.
Последним и высоким торжеством Яковлева была роль Карла Моора в «Разбойниках» Шиллера, данных в его последний бенефис. В этой роли он превзошел самого себя. Так прекрасно и совершенно не создавал ее еще ни один из прославленных европейских артистов. Это была безграничная лава чувства и страсти, вытекавшая из прекраснейшего античного сосуда. Здесь, в этой полуэксцентрической роли, соединил он обе школы: прежнюю пластическую сторону искусства с новейшею психическою его стороною.
[Ф. Кони.] Еще один из русских трагиков. («Пантеон». 1851, т. I, кн. 1-я, стр. 21–23.) 7
… Вчера, по возвращении из спектакля, я так был взволнован, что не в силах был приняться за перо, да признаться, и теперь еще опомниться не могу от тех ощущений, которые вынес с собою из театра. Боже мой, боже мой! Что это за трагедия «Димитрий Донской» и что за Димитрий — Яковлев! Какое действие производил этот человек на публику, — это непостижимо и невероятно! Я сидел в кресле и не могу отдать отчета в том, что со мною происходило. Я чувствовал стеснение в груди; меня душили спазмы, била лихорадка, бросало то в озноб, то в жар; то я плакал навзрыд, то аплодировал из всей мочи, то барабанил ногами по полу, — словом, безумствовал, как безумствовала, впрочем, вся публика, до такой степени многочисленная, что буквально некуда было уронить яблока. В ложах сидело человек по десяти, а партер был набит битком с трех часов пополудни; были любопытные, которые, не успев добыть билетов, платили по 10 рублей и более за место в оркестре между музыкантами. Все особы высшего общества, разубранные и разукрашенные как будто на какое-нибудь торжество, помещались в ложах бельэтажа и в первых рядах кресел и, несмотря на обычное свое равнодушие, увлекались общим восторгом и также аплодировали и кричали браво наравне с нами.
В половине шестого часа я пришел в театр и занял свое место в пятом ряду кресел. Только некоторые нумера в первых рядах и несколько лож в бельэтаже не были еще заняты, а впрочем, все места были уже наполнены. Нетерпение партера ознаменовалось аплодисментами и стучаньем палками; оно возрастало с минуты на минуту, — и не мудрено: три часа стоять на одном месте — не безделка; я испытал это истязание; всякое терпение лопнет. Однакож, мало-помалу наполнились и все места, оркестр настроил инструменты, дирижер подошел к своему пюпитру.
Яковлев открыл сцену. С первого произнесенного им стиха: «Российские князья, бояре» и пр. мы все обратились в слух, и общее внимание напряглось до такой степени, что никто не смел пошевелиться, чтоб не пропустить слова; но при стихе:
Беды платить врагам настало ныне время!
вдруг раздались такие рукоплескания, топот, крики браво и пр., что Яковлев принужден был остановиться. Этот шум продолжался минут пять и утих не надолго. Едва Димитрий в ответ князю Белозерскому, склонявшему его на мир с Мамаем, произнес:
Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!
шум возобновился с большею силою. Но надобно было слышать, как Яковлев произнес этот стих! Этим одним стихом он умел выразить весь характер представленного им героя, всю его душу и, может быть, свою собственную. А какая мимика! Сознание собственного достоинства, благородное негодование, решимость, — все эти чувства, как в зеркале, отразились на прекрасном лице его. Словом, если бы Яковлев не имел и никакой репутации, то, прослушав, как произнес он один этот стих, нельзя было бы не признать в нем великого мастера своего дела. Я не могу запомнить всех прекрасных стихов в сцене Димитрия с послом мамаевым; однакож, благодаря таланту Яковлева, некоторые как бы насильно врезались в память, как например:
Иди к пославшему и возвести ему,
Что богу русский князь покорен одному;
или
Скажи, что я горжусь мамаевой враждой:
Кто чести, правде враг, тот враг, конечно, мой!
Все эти стихи, равно как и множество других, в продолжение всей трагедии выражаемы были превосходно и производили в публике восторг неописанный; но в последней сцене трагедии, когда, после победы над татарами, Димитрий, израненный и поддерживаемый собравшимися вокруг него князьями, становится на колени и произносит молитву:
Но первый сердца долг тебе, царю царей!
Все царства держатся десницею твоей:
Прославь и утверди, и возвеличь Россию,
Как прах земной, согни врагов кичливых выю,
Чтоб с трепетом сказать иноплеменник мог:
Языки! Ведайте — велик российский бог!
Яковлев превзошел сам себя. Какое чувство и какая истина в выражении! Конечно, ситуация персонажа сама по себе возбуждает интерес, стихи бесподобные; но играй роль Димитрия не Яковлев, а другой актер, я уверен, эти стихи не могли бы никогда так сильно подействовать на публику. Зато и она сочувствовала великому актеру и поняла его: я думал, что театр обрушится от ужасной суматохи, произведенной этими последними стихами. Тотчас начались вызовы автора, которого представил публике Александр Львович [Нарышкин] из своей ложи; потом вызван был и Яковлев — неоспоримо главный виновник успеха трагедии.
О Шушерине в роли князя Белозерского сказать нечего. Эта роль незначительна, и ему не было случаев развить своих дарований. Но Семенова была прелестна, особенно в последней сцене, когда Ксения узнает, что Димитрий жив; она с таким чувством и с такою естественностью проговорила:
……………….. Оживаю
И слезы радости я первы проливаю,
что расцеловал бы ее, голубушку. […]
… «Димитрий Донской» наделал такого шуму, что только о нем и говорят. При всякой встрече с кем-нибудь из знакомых можешь быть уверен, что встретишь и вопрос: «что, видели ли Донского?» А каков Яковлев? Озеров — Озеровым, но мне кажется, что Яковлев в событии представления играет первую роль. Пожалуй, скажут, что это несправедливо, а я так думаю напротив. Автору воздаяние впереди — потомство; а после актера, будь он хоть семи пядей во лбу, что останется? Предание лет на пятьдесят, да и то предание сбивчивое и неверное; потому что если он и живой подвергается оценке произвольной, то о мертвом, как толковать ни станут, поверки не будет, а между тем охотников глодать кости мертвых — многое множество; следовательно, пусть актер и наслаждается при жизни преимущественно пред автором своими успехами. […]