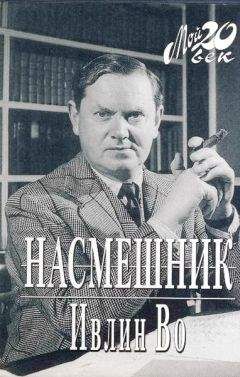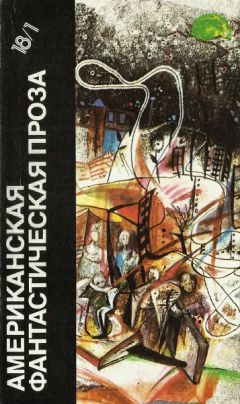Но мне не было дела до всей этой разрухи. Мне она даже нравилась. Сожаление пришло позже, когда, по мере старения теток, дом внутри стал осовремениваться. Плюш на мягкой мебели уступал место ситцу, газовое освещение — электрическому; примитивную газовую колонку в ванной заменили; провели водопровод, и ручные насосы покрылись ржавчиной; исчезло былое множество полочек и журнальных столиков, и столового фарфора; старинные обои ободрали и стены покрыли краской. Часы встали и сами, они, бронзовые, мраморные и золоченой бронзы, были заменены сверкающими новыми устройствами, показывающими время. Тетушка Элси решила, что чучела птиц и бабочки в рамках — дурной тон, и убрала их в «темную кладовку». Она внушила себе, что ей нравятся жалкие фарфоровые фигурки животных, которых ей в избытке дарили подруги, нравились забавные предшественники диснеевских щенят и котят, троицы обезьянок, прикрывающих глаза, рты и уши. Почтовое ведомство потребовало дать дому название — прежде адрес был простой: «Мидсомер-Нортон, Бат». Она предпочла эксцентричное «Под горой», и, несмотря на мягкие возражения тетушки Конни, под таким именем дом теперь фигурировал на почте, хотя больше нигде. (Письма со старым адресом исправно доставлялись.)
Пони забрался в обнесенный стеной сад и сдох, переев незрелых абрикосов, которые срывал прямо с веток. Его стойло исчезло, и на его месте появился двухместный «моррис», который водила «компаньонка».
Тетки обеднели, как все мелкие рантье, хотя нужды не испытывали. Огород, располагавшийся через дорогу, был продан и вскоре застроен. В конце концов, после Второй мировой войны библиотека и помещения для прислуги стали сдаваться внаем, как отдельные квартиры. Я по-прежнему часто наезжал к ним, но на ночь никогда не оставался, предпочитая лишний час или два потратить на обратную дорогу. Мои воспоминания о конце смутны и неотделимы от того, что я пережил в первые пятнадцать лет моей жизни. После смерти последней из теток, Элси, которая, как это часто бывает с инвалидами, пережила сестер, имение было продано и перестроено под офисы для местного правительства.
Больше я там не бывал.
3
Родители довольно редко водили меня куда-нибудь. Отец, устраивая развлечение, любил шикануть, не в пример матери. Не сказать, чтобы из-за этого я больше предпочитал ходить с ним, но понимал, что это часть мужского, более роскошного стиля жизни. Когда мы с отцом шли в театр, то сидели в креслах партера, а перед тем обедали в ресторане в Сохо всяческими деликатесами. С матерью мы ели в кафе Лайонса и вставали в очередь за билетами в задние ряды за креслами. Но походы в театр бывали лишь раз в год, на Рождество.
С матерью я ездил на автобусе в музеи. Картинные галереи в детстве не интересовали меня. Мне нравились египетские мумии, манускрипты, украшенные красочными миниатюрами, средневековое оружие. Отец водил меня в лондонский Тауэр, Сентальбанское аббатство и другие подобные места. Он живо рассказывал обо всем, что мы видели, завязывал дружеские отношения с бифитерами[58] и служителями в храмах, давал щедрые чаевые, окутывая наши персоны флером значительности, чего недоставало нам с матерью, когда мы ходили с ней куда-то одни. Мистер Ролан (о котором ниже) брал меня вместе со своими детьми на военные игры в Олимпии и благодаря своей должности в военном министерстве сажал нас на лучшие места. Мисс Хор иногда по воскресеньям возила нас в зоопарк, прихватывая с собой большую корзинку с едой для зверей. Она знала, кто что больше любит. Знала всех смотрителей, и нас водили за ограду и позволяли погладить наиболее смирных животных.
Лишь однажды, когда я был совсем еще мал, мы всей семьей предприняли попытку поехать на отдых к морю — кажется, в Рамсгейт. Мы сняли домик с мебелью, где впервые на моей памяти у нас был слуга, дряхлый немец, который почему-то поразил меня. Я упал на узкой лестнице и поранил глаз; в утешение я получил кусок вишневого пирога. Результат поездки оказался удручающим, о чем я узнал впоследствии. Я был там вполне счастлив, но отец остался крайне недоволен, и эксперимент больше не повторялся. После этого мать с отцом всегда ездили вдвоем в июне за границу. Каждое лето по крайней мере один раз, а может, и чаще она ездила со мной на взморье на два-три безоблачно счастливых дня, обычно в Брайтон или Уэстклиф, или Бродстейрс. Мы останавливались в маленьких частных гостиницах и все дни проводили на пирсах или на берегу, песчаном или галечном. В тех вылазках я никогда не знакомился с другими детьми да и не жаждал этого.
Отец был членом клуба Сэвил, тогда располагавшемся в Пикадили, и обеспечил нам зрительские места как на похоронах короля Эдуарда VII, так и на коронации Георга V. Я пропустил оба этих события, первое из-за кори, второе из-за ветрянки. Как я уже упоминал, болел я редко. Единственный раз я доставил серьезное беспокойство своим близким летом 1912 года, когда у меня случился приступ аппендицита и меня прооперировали прямо дома на кухонном столе. В то время аппендицит считался вещью довольно опасной. Родители были очень встревожены, и обычный régime[59] в доме была нарушен присутствием сиделки, которую я окрестил Негодяйкой и которая восстановила против себя и семью, и слуг. Меня держали в неведении относительно того, что со мной. В ночь перед операцией Люси спала в моей комнате. Когда я уснул, она вспомнила, что многочисленную посуду с приготовленным кипятком нужно чем-то укутать. Она спустилась вниз, а когда вернулась, я спросил, где она была. Она ответила, что «ходила кое-что укутать». Мать поинтересовалась, почему было не сказать, что она ходила в уборную. «Не могла солгать». Наутро в мою спальню вошел незнакомый человек, не наш семейный доктор, и произнес: «Ну-с, давай понюхаем, как это замечательно пахнет», — одновременно прикладывая к моему лицу марлевый конус, пропитанный хлороформом. Мне запах показался отвратительным, но следующим ощущением было, что я очень болен, что мои ноги привязаны к кровати и до смерти хочется пить. В воде мне было отказано. Вместо этого Негодяйка протерла мне рот и язык намоченным ватным тампоном. В первый и чуть ли не в последний раз я почувствовал себя по-настоящему больным. Неделю или дней десять мои ноги оставались привязанными к кровати. Приходили люди с подарками и хвалили меня: какой я храбрец. Я представлял себе, что храбрец — это тот, кто рубит саблей орды патанов[60] и пруссаков. И вовсе не чувствовал себя храбрецом. Я не знал, как еще можно было бы вести себя в том положении, усыпленному, выпотрошенному и связанному. Приятно было в какой-то степени ощущать себя значительной фигурой, но вся эта история была мне неприятна. Я снова взялся за дневник и первым делом изобразил себя под ножом хирурга.