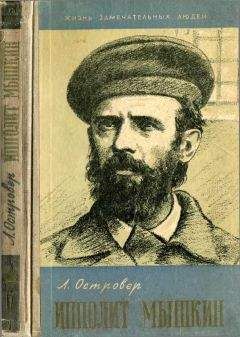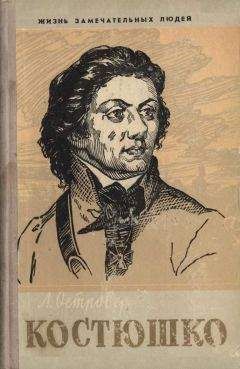Переодеться в форму жандармского офицера несложно: мундир, шашку, побрякушки можно приобрести, а унтер-офицер Мышкин сумеет носить военную форму с такой гвардейской лихостью, что провинциальные офицеры ему позавидуют. Но где достать удостоверение личности и предписание о выдаче Чернышевского? Только в Иркутском жандармском управлении! Документы должны быть подлинные, на подлинных бланках, с настоящими печатями и написаны должны быть документы тем канцелярским языком, в котором обороты, обращения и расстановка слов незыблемы, как в молитве.
Мышкин приступил к выполнению своего плана.
Начал он издалека, со знакомства с людьми, которые к его замыслу никакого отношения не имели: с инженерами, со строительными подрядчиками, со служащими городского архитектурного управления.
В этих кругах скоро оценили чертежно-топографические способности Мышкина — его завалили работой и даже приглашали на штатную должность.
«Михаил Петрович Титов» стал много зарабатывать, к нему привыкли, его считали своим.
К тому же Михаил Петрович оказался широкой натурой: с компанией в трактир пойдет — сам платит, к себе зазовет — угостит на славу.
Круг знакомств постепенно расширялся: уже попадались чиновники, гарнизонные писаря и даже офицеры.
Выл среди новых знакомых и старший писарь» жандармского управления Непейцин — высокий, сухой, со строгим взглядом пожилой человек, но в подпитии. — весельчак и циник.
Мышкин не пил, даже чувствовал отвращение к водке, но с пьянчужкой Непейциным он сразу «подружился». Провозился с ним всю масленицу — ходил с ним по трактирам, устраивал вечеринки у себя за Ушаковкой.
И Непейцин привязался к Мышкину: к концу масленицы он уже отказывался от приглашений в знакомые дома, если одновременно с ним не приглашали его дружка Титова.
От Непейцина шел какой-то сложный и неприятный запах: не то чеснока, не то гниющей картошки. Ипполита Никитича тошнило при встречах с «Вонючкой», как он про себя звал жандармского писаря, но если посмотреть со стороны, как они, подвыпившие (Мышкин после первой же рюмки прикидывался пьяным), обнимаются или песни орут, можно было подумать: настоящие друзья!
И вот однажды, когда Непейцин жаловался своему другу на «паршивую жизнь»: «И в рожу тебе плюют, и денег нет», Мышкин решился:
— Хочешь, Костя, заработать красненькую?
— Какой чудак откажется. Только за что, спрашивается?
— За пустяк. У нас в архитектурном управлении служит инженер Соколовский. На него донос подан. Старик он очень хороший, и мне его жалко: затаскают человека. Донос, наверно, чепуховый: ведь Соколовский — старик смирный, безобидный. Сними, Костя, копию с этого доноса, пусть старик знает, какие грехи ему приписывают.
Непейцин ничего не ответил — вечер они провели как всегда: «песни орали», говорили о пустяках. А через день пьянчужка принес копию с доноса.
Ипполит Никитич прочитал аккуратно переписанную копию, тут же разорвал ее и, передавая Непейцину десятирублевую кредитку, тепло сказал:
— Ну его с жалостью. Соколовский может еще шум поднять, начнут искать виновных и до тебя доберутся. Будут у тебя неприятности. А я, Костя, не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Ты мне друг! Ты мне дороже всяких там инженеров Соколовских!
Непейцин принял деньги, но поступок Мышкина его растрогал: в этот вечер он больше пил, больше плакался на «паршивую жизнь» и чаще, чем обычно, клялся: «За тя, друг Миша…»
Мышкин действовал осторожно: сначала он поручал своему «другу» пустяковые, безобидные дела и за эти пустяки платил выпивкой или мелочью; потом, когда он убедился, что «Вонючка» жаден не только к водке, но и к деньгам, Мышкин попросил принести несколько бланков жандармского управления непременно с печатями.
— Зачем тебе? — удивлялся Непейцин.
— На всякий случай. Знаешь ведь, Костя, все мы под богом ходим. Авось при нужде выручат.
Непейцин принес бланки, и больше, чем нужно было Мышкину: ведь за каждый бланк с печатью Ипполит Никитич платил ему по рублю.
Пьянчужка привык к новому источнику дохода и поэтому был крайне разочарован, когда его друг и от бланков стал отказываться и поручения перестал давать.
— Жадный стал ты, Миша, — жаловался он. — Зарабатываешь сотни, а для друга десятки жалко.
— Эх, Костя, не понимаешь ты меня! К чему мне твои бланки? — Он достал из ящика стола несколько бланков, разорвал их. — Вот твои бланки! На кой ляд они мне? Спросишь, а зачем я их у тебя брал? От доброты сердечной, от любви к тебе. Вижу, тебе трудно живется, давай, думаю, помогу другу. Человек ты благородный, подачки от меня не примешь, вот я и затеял всякие там поручения да бланки. Ну а теперь, Костя, что можно выдумать? Ничего не выдумаешь. Хочешь, я тебе трешку подарю?
— Мне подачка не нужна.
Мышкин налил водку в стакан Непейцина.
— Вот и я говорю, что ты человек благородный, что ты подачки не примешь. Но что можно… — Он вдруг обнял писаря и сказал обрадованно — Костя! Учи меня писарскому делу! Будет и тебе и мне польза! Сегодня у меня есть чертежная работа, а завтра может ее не быть! Правда, Костя? Тогда в писаря подамся! А за уроки я тебе платить буду! По целковому за урок!
И две недели Непейцин учил Ипполита Никитича писарскому делу: как писать предписание на арест, предписание на выдачу арестанта, предписание на перевод арестанта из одной тюрьмы в другую, объяснял, кто какую бумагу должен подписывать, кто кому подчинен.
Непейцин оказался докой в этом деле, а Мышкин — способным учеником. Оба они остались довольны: Мышкин потому, что получил, наконец, возможность замкнуть утомительно длинную цепь подготовительных работ, а пьянчужка Непейцин тем, что за каждый урок получал, кроме выпивки, еще и рубль серебром.
17
Если в последние месяцы иногда закрадывалось в сердце Мышкина сомнение: «Удастся ли?», то сегодня, садясь в кибитку, Ипполит Никитич был уверен в успехе. Он предусмотрел все: в кармане документы на подлинных бланках, дорогу он изучил по лучшим картам, в офицерском мундире будет себя чувствовать не хуже любого старослужащего, а со всякими там урядниками да исправниками он найдет нужный тон.
Тройка сытых и крепких лошадей вынеслась на тракт. Сияло солнце, в небе курлыкали журавли. На сердце радостно.
В Качуге Мышкин пересел на паузок, груженный мукой, солью, салом.
Они плыли по Лене: над рекой нависли высокие утесы и скалы из красного песчаника. По правую руку темнели лиственницы, пихты и кедры.
Минули Жигалово, Усть-Куту, и река Лена развернулась во всю свою ширь.
Народ на паузке попался неинтересный, но назойливо любопытный. Многих интересовал пассажир, который, лежа на мешках, пристально всматривается в берега, словно ищет что-то, и от поры до времени заполняет страницы своей записной книжки закорючками и загогулинками.