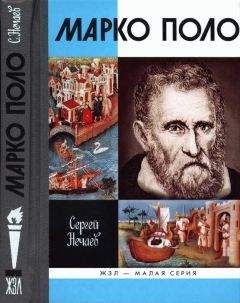Но у губернатора начались обыски, и кое-какие материалы показались Третьему отделению весьма интересными. У Филимонова хранилось небольшое количество бумаг, оставленных ему родственником, работавшим в Следственной комиссии по делу декабристов. Там была копия письма полковника Штейнгеля о конституции, а также переписка с декабристами Батеньковым и Муравьёвым. Для шефа жандармов, графа Бенкендорфа, этого оказалось вполне достаточно. «…Действитель-ный статский советник Филимонов прикосновенен к открытому в Москве в 1831 году Тайному злонамеренному обществу», – таков был окончательный вердикт графа. После содержания в Петропавловской крепости Филимонов был выслан с лишением имуществ и званий на жительство в город Нарву. От Сибири Филимонова спасло то, что бумаги были писаны не его рукой.
Оставшись без средств к существованию по иронии злой судьбы, Филимонов пробует зарабатывать себе на жизнь литературным трудом. Он очень много работает, пишет прозу, стихи, басни. Что-то оказывается изданным, а что-то до сих пор даже не подобрано в архивах. В конце жизни Владимир Сергеевич мучился от водянки и совсем ослеп. Умер Филимонов в 1858 году в полной нищете, то ли в Нарве, то ли в Москве, то ли в небольшом селе Мартышкино под Петербургом.
При составлении использованы издания:
Филимонов В. С.
Дурацкий колпак. части III, IV,V.
Санкт-Петербург. Типография Нейман и К. 1838 г.
Поэты 1820–1830-х годов. Том первый. Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание. Ленинград. Советский писатель. 1972 г.
Все публикуемые тексты приведены в соответствие с правилами современного русского языка.
Из поэмы «Дурацкий колпак»
Беда от Идеалов в мире!
Романтики погубят нас.
Им тесно здесь, живут в эфире…
Их мрачен взор, их страшен глас,
Раскалено воображенье,
Пределов нет для их ума.
Ещё Шекспир – настанет тьма;
Ещё Байро́н – землетрясенье;
Беда, родись другая Сталь!
Всё так. В них бес сидит лукавый.
Но мне расстаться было жаль
С философической державой.
О время! Время! Враг! Губитель!
И благодетель, и целитель!
Твой яд врачующий помог душе больной…
Одно лишь время в том успело,
В чём не успел рассудок мой:
Томился я – оно летело,
Что изменялось, что старело…
«Зачем оставил я Кремля седого стены?»
Зачем оставил я Кремля седого стены?
В Москве бы чудно поживал:
Играл бы в клубе я, а в опере зевал;
Фортуны б ветреной не испытал измены…
Случилося не так.
Я тени всё ловил, смешной искатель славы.
Мне правду шепчет враг лукавый:
Дурацкий кстати вам колпак.
С моею странною душою,
Как Вертер-Донкихот, боролся я с мечтою,
Руссо-фанатика читал;
В московском свете представлял
Сентиментальную любви карикатуру.
Петрарка новый, я пел новую Лауру,
И Яуза была Воклюзою моей…
Я в цвете юношеских дней
Дурак классический от скучного ученья,
Стал романтический дурак
От прихоти воображенья.
«Знавали ль вы Москву былую»
Знавали ль вы Москву былую,
Когда росла в ней трын-трава?
Я вам старушку нарисую.
Вот допожарная Москва:
Валы, бугры, пруды, овраги,
Домы на горках и во рвах,
Телеги, цуги, колымаги;
По моде юноши в очках
И дев и жён безлётных стаи,
Алины, Полиньки, Аглаи;
Ходячих сборище веков,
Старух московских допожарных
И допотопных стариков,
Рассказчиков высокопарных;
Толпы майоров отставных,
Белоплюмажных бригадиров,
Тузов-вельмож давно былых.
Из поэмы «Обед»
«Однажды был такой обед»
Однажды был такой обед,
Где с хреном кушали паштет,
Где пирамида из котлет
Была усыпана корицей,
Где поросёнок с чечевицей
Стоял обвитый в колбасах,
А гусь копчёный – весь в цветах.
А вот обед, где ветчина
Была с изюмом подана!!!
Вот редька горькая с сметаной!!!
Вот с черносливом суп овсяный,
С лавровым листом колбаса,
С ершами – соус из морошки,
С брусникою – телячьи ножки!
Обед – веселье, а не бремя,
Он нас не должен утомлять:
Мы, в наше нравственное время,
Едим, чтоб жить, не с тем, чтоб спать.
Мы пьём не с тем, чтоб упиваться,
Чтоб отуманивать наш ум.
Мы пьём, чтоб чувством наслаждаться,
Чтоб искрить пену наших дум.
Николай Иванович Надеждин
Седой Свистов! ты царствовал со славой;
Пора, пора! сложи с себя венец:
Питомец твой младой, цветущий, здравый,
Тебя сменит, великий наш певец!
Се: внемлет мне маститый собеседник,
Свершается судьбины произвол,
Является младой его наследник:
Свистов II вступает на престол!
Кто-кто, а Надеждин сам напросился. Ведь писал же: «…Ежели певцу Полтавы вздумается швырнуть в меня эпиграммой – то это будет для меня незаслуженное удовольствие». И получил от Пушкина даже не одну, а несколько. Только вот удовольствие – вряд ли от этого получил.
Н. И. Надеждин. Гравюра на стали. Литературный музей, Москва. Автор неизвестен
Надеясь на моё презренье,
Седой зоил меня ругал,
И, потеряв уже терпенье,
Я эпиграммой отвечал.
Укушенный желаньем славы,
Теперь, надеясь на ответ,
Журнальный шут, холоп лукавый,
Ругать бы также стал. – О, нет!
Пусть он, как бес перед обедней,
Себе покоя не даёт:
Лакей, сиди себе в передней,
А будет с барином расчёт.
«Зоил» и «барин» – это, понятно, Каче-новский, ну, а всё остальное, выходит – На-деждин.
Но Николай Иванович Надеждин – личность достаточно противоречивая, ограничиться пушкинским эпиграмматическим определением его сути будет крайне опрометчиво и несправедливо.
Надеждин происходил из семьи священника, и начало его деятельности не давало никаких поводов увидеть в нём будущего литературного критика и учёного-философа. Он окончил Рязанское духовное училище и семинарию, затем Московскую духовную академию, после которой преподавал в семинарии словесность и немецкий язык. Но более двух лет в духовном звании он не продержался и попросил о своей отставке.
С этого начался новый период в его жизни – он переезжает в Москву, сближается с литераторами, составляющими круг авторов «Вестника Европы», и, разумеется, с самим Ка-ченовским, редактором одиозного журнала. Но писал Надеждин не только для «Вестника», он сотрудничал с журналами Погодина и Павлова, а также основал свой журнал «Телескоп». Новый журнал наделал много шума после публикаций в нём «Философических писем» Чаадаева, за что Надеждина как его издателя и редактора высылают в Усть-Сысольск.