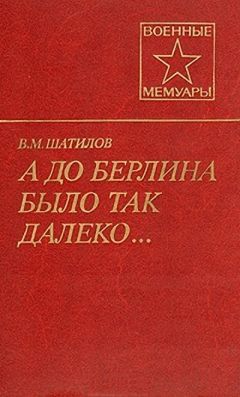- Этот дождь слепой, - взглянув на меня, протянул возница, - скоро кончится.
Тучи почти полностью заволокли небо, оставив лишь узкую ярко-голубую полоску на востоке. Кромка туч, соприкасаясь с нею, светилась золотой бахромою. И мне внезапно подумалось, что тучи - это фашистские полчища, навалившиеся на нашу Родину. А там, где искрится золотая бахрома, передовая. Там кипит бой, суровый и жестокий. Там мои товарищи, побратимы, дерутся не на жизнь, а на смерть. Тучи конечно же будут побеждены, небо очистится, и солнце, мирное, согревающее, засияет над страной. От этой мысли боль на мгновение притупилась. Но на очередном ухабе повозку сильно тряхнуло, из груди моей вырвался стон, ярко-голубая полоска неба раскрошилась на кроваво-красные куски. На мое сознание накатывалась обжигающая волна темноты. Я вновь впал в забытье.
Не помню, как меня перенесли в грузовик. Минуя медсанбат, меня доставили в Добрянку, где сделали несколько операций по извлечению осколков снаряда из левого бедра.
Потом был чистенький и уютный военно-санитарный поезд. Я лежал и смотрел в окно на проплывающие мимо израненные войной леса, поля и селения. Фактически станций и деревень, как таковых, и не было. Высились лишь почерневшие от пожаров трубы и угадывались бесконечные землянки там, где когда-то стояли дома. Горестно было смотреть на эту унылую картину.
Но еще чаще мимо нашего санитарного поезда проносились воинские эшелоны. Они тянулись к фронту бесконечной вереницей. Сердце наполнялось радостью и гордостью при виде застывших на платформах танков, САУ, артиллерийских орудий, которые шли на запад, чтобы громить врага.
Недолгим был мой путь в поезде. Я уже сказал, что он был чистеньким и уютным. И это действительно было так - после передовой. Нам казалось, что мы попали в другой мир, хотя, конечно, очень далеко было до комфорта современного скорого поезда. Просто матрац, застиранная простыня да подушка для солдата-фронтовика были верхом представлений об уюте. А на самом деле в видавшем виды плацкартном вагоне было тесновато. Даже внизу, в проходах между полками, стояли носилки с ранеными. Было душно, но, мне кажется, на это мы не обращали внимания. Каждый старался поглядеть в окно, гадали, куда нас везут, где мы остановились... А ехали медленно, стояли часто. Мне казалось, что в движении боль от ран не так ощущается. А когда поезд не двигался, я, чтобы хоть как-то отвлечься, не потерять сознание, старался прислушиваться к голосам моих попутчиков.
Среди нас были украинцы, и они хорошо знали эти места. Вспоминали, какими были до войны села и города, от которых остались одни развалины. Мы ехали по Киевской, а потом по Черниговской областям. Ехали, не зная, что это был партизанский край, где всего лишь два-три месяца назад народные мстители вели жестокие бои с захватчиками. Уже потом, через несколько лет, я узнаю имена прославленных партизанских командиров, их мемуары мне напомнят забытые названия населенных пунктов, где довелось проходить и подразделениям нашего полка.
Развалины, кругом развалины... Следы бомбежек и артобстрелов. Разруху и горе оставила после себя война на некогда цветущей белорусской земле. Но, странное дело, мои товарищи-фронтовики, провожая взглядами пепелища, чаще всего выражали одно, общее чувство: не покорилась врагу наша земля, вынесла неслыханные горе и страдания, чтобы победить коричневую нечисть! А каждый воинский эшелон, идущий на запад, они провожали восторженными восклицаниями, и сердца наши наполнялись гордостью: до чего же велика и сильна Страна Советов! Действительно, только родина Октября могла выдержать коварный фашистский удар из-за угла, оправиться от него, перестроить всю экономику на военный лад, подчинив ее закону: все для фронта, все для победы.
Помню, раненые долго и взволнованно обсуждали один случай. На одном из полустанков к нашему вагону подошла худая и изможденная женщина. Она принесла раненым хлеб и молоко. Когда наша сестра приняла каравай и бидон, женщина повернулась, чтобы уйти, но неожиданно пошатнулась и упала. Как потом выяснилось, она потеряла сознание от постоянного недоедания. Каждый день она приходила к санитарному поезду и приносила последнюю еду, какая у нее была. В записке, которую она постоянно отдавала врачам, была просьба: "Не знаете ли вы о моем сыне младшем лейтенанте Петре Кондрашове? Его эвакуировали вашим поездом. Сообщите, что с ним? Не бойтесь, я сильная. Все стерплю..."
Медсестра рассказала, что месяц назад мать узнала: ее сын-танкист в санитарном поезде. Но ей не было известно, что позже он скончался от ожогов. Не в нашем, в другом санитарном поезде. Все военные медики знали об этом, однако никто не решался сообщить матери о смерти сына. Сейчас я понимаю, что это не совсем правильно, но тогда мы одобряли медиков, которые постоянно утешали женщину, берегли ждущее, верящее в счастливый исход материнское сердце.
К вечеру, когда мы застряли на какой-то станции, мне стало хуже. Казалось, что в кость ноги кто-то, безжалостный и сильный, пытается вставить раскаленный металлический прут. С трудом мне удавалось сдерживать стон. А может быть, мне это только казалось. Мучительной становилась каждая секунда, и так хотелось, чтобы поезд тронулся: в этом почему-то виделось единственное спасение. И когда до моего слуха донесся едва слышимый протяжный вой, я его принял за далекий паровозный гудок, стал ждать, что вот-вот раздастся лязг буферов, поезд дернется и мы поедем...
Вагон действительно вздрогнул, даже качнулся из стороны в сторону: грохот недалекого взрыва заполнил наше хрупкое убежище. Потом еще взрыв, еще... Бомбежка!
Снаружи раздались голоса: кто-то отдавал команды. И в нашем вагоне чей-то возглас:
- Горит!!!
- Что?
- Где?
- Не наш?
Но восклицания вскоре прекратились. Установилась жуткая тишина ожидания.
Перед моими глазами, на противоположной стенке вагона, беспорядочно метнулись светло-розовые тени. Они становились все более яркими и багровыми. Видимо, горел где-то рядом эшелон, а может быть, станционная постройка.
Фашистские бомбардировщики, видимо, сделали очередной заход, потому что новая, серия мощных взрывов сотрясла землю. Почудилось, что наш вагон вот-вот развалится на мелкие щепки. Мною вдруг овладело странное безразличие. Я перестал ощущать боль. "Будь что будет!" Одно дело окоп или траншея - куда надежнее. Какие только бомбежки не выдерживали! А здесь что ты можешь? Лежи и жди. На что надеяться, не знаешь.
Еще раз дико тряхнуло. До слуха донесся полный отчаяния женский крик: "Куда вы? На место!" И для меня этот кошмар перестал существовать. Вернул меня к сознанию странный размеренный звук: "Тук... Тук... Тук..." "Неужели это стучит мое сердце? Но почему так медленно?" Я боялся открыть глаза.