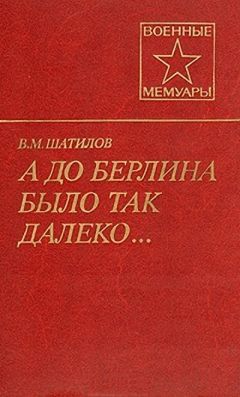"Тук... Тук... Тук..." Да это же я в поезде! Мы едем! А стучат колеса на стыках рельсов. Приподнимаю веки: сквозь тусклый электрический свет с трудом различаю знакомую стенку вагона, Слышны разговоры. Люди даже перекликаются из-за переборок. Их не оставляет возбуждение от пережитого. Из разговоров начинаю понимать, что в разгар бомбежки машинисты вывели наш поезд за пределы станции. И я, до этого почему-то не думавший о машинистах, отчетливо представил этих людей. Скорее всего, их двое. В замасленных, пропитанных угольной пылью бушлатах, такие же темные фуражки... И обязательно у каждого усы. Седые, порыжевшие от дыма махорки... Такими мне рисовались эти люди, которые, рискуя жизнью, делали свою работу. Вот и на этот раз они буквально из огненного ада вырвали сотни человеческих жизней. И это о них сейчас с признательностью и по-мужски скуповатой теплотой говорили между собой спасенные.
Поезд привез нас в город Добрянка, что в Черниговской области. Здесь меня ждали новые испытания: рана моя выглядела очень плохо, чтобы спасти ногу, требовалось срочное вмешательство. Делал мне сложную операцию на бедре хирург майор Василенко. Это был смелый и жизнерадостный человек, прекрасный врач. В госпитале о нем ходили легенды. Говорили, что Василенко извлек пулю из сердца одного сержанта. Лежавший со мной рядом младший лейтенант уверял, будто во время операции Василенко перелил ему чуть ли не литр своей крови.
Тогда мы верили в каждую из этих историй, потому что Василенко и в самом деле брался за самую трудную операцию, даже когда другие врачи и не надеялись вернуть человеку жизнь. Так случилось и со мной. Осматривала меня пожилая женщина с глубоко запавшими глазами. Она устало произнесла, видимо, думая, что я в бессознательном состоянии:
- Да-а... Ясно - ампутация!
Но Василенко запротестовал:
- Надо попытаться сохранить. - Широкая ладонь легла мне на лоб. Надо! Готовьте к операции.
Вот так он поступал всегда, без боя не уступал никому и ничего. Были случаи, когда он до крови искусывал во время операции себе губы. Это происходило тогда, когда его мастерство, опыт и воля оказывались бессильными... Но таких случаев, к счастью, у него было мало.
Медицинской сестрой в нашем отделении работала Валя Станицкая, молоденькая, симпатичная и очень стеснительная девушка.
Отличалась она особой душевностью, мягкостью характера, а при разговоре, что было удивительно для ее возраста, убедительностью аргументов. А может быть, это нам казалось. Ведь в нашем положении мы были словно дети и того, кто за нами ухаживал, воспринимали как человека особого душевного склада. Но, скорее всего, мы не обманывались в своих чувствах. Я и сейчас убежден, что тогда в госпиталь шли только люди душевные, остро воспринимающие чужое горе, чужие страдания. Даже трудно представить, насколько мы, фронтовики, обязаны таким, как Валя.
В соседней палате лежал весь израненный лейтенант-танкист. У него отняли обе ноги. Повреждена была и левая рука: осколком перебило кость и сухожилия. И все же майор Василенко сделал операцию, сшил вены и сухожилия. Он чаще всех приходил к лейтенанту-танкисту и подолгу успокаивал его, обнадеживал.
Но однажды утром лейтенант вдруг отказался от завтрака. Потом от обеда. Василенко страшно рассердился. Ругал танкиста так, что было слышно даже в нашей палате. Но и это не помогло. Лейтенант отказался и от ужина.
И вот тогда к нему пришла Валя Станицкая. Она почти неслышно попросила всех, кто мог передвигаться, выйти из палаты, а сама долго беседовала с офицером. Когда раненые вернулись, оба они - танкист и медсестра - плакали. Ее пальцы бережно гладили его заросшую щеку, нежно поправляли густые темные волосы. Изредка она платком вытирала ему слезы, забывая о своих. О чем они говорили, для нас осталось тайной, однако пищу лейтенант начал принимать. Потом лишь нам стала известна причина столь разительной перемены в его поведении.
Танкист получил из дому письмо, в котором сообщалось, что его жена исчезла из дома с трехлетним сыном. Случилось это тогда, когда она узнала об ампутации обеих ног мужа. Соседка, мол, видела ее на станции с каким-то высоким капитаном. Жестокая весть! Чья рука поднялась на это, трудно сказать, но ясно, что офицер мучительно страдал. Что горше можно придумать - предан любимым человеком! Да и кому нужен? Калека!
И Валя больше других понимала его состояние. Только ее чуткое, отзывчивое сердце сумело растопить эту горечь, помогло укрепить у лейтенанта веру в преданность и порядочность женщин, в то, что в письме ошибка, какой-то злой навет.
А через несколько дней произошло событие, всколыхнувшее весь госпиталь: неожиданно приехала жена лейтенанта с сыном. Более того, на протесты Василенко она решительно заявила, что никуда отсюда не уйдет: будет присматривать и ухаживать за мужем.
Эту женщину звали Машей. Она запомнилась нам тихой и незаметной, с ласковым голосом и доброй улыбкой. Мы, холостые и женатые, боготворили ее, для нас она олицетворяла всех благородных, преданных и любящих женщин.
В маленькой палате со мной лежали еще трое офицеров. У всех были огнестрельные или осколочные раны. Большинство из них прибыло после боев на Днепре, при захвате и расширении плацдарма. Один из них - младший лейтенант Иванов, коренной сибиряк, в плечах - косая сажень. Он мог, по его словам, руками разогнуть подкову. А сейчас лежал с забинтованной правой рукой: ему оторвало кисть. Этот сильный молодой человек то и дело горестно сокрушался: что теперь будет, ведь он не сможет больше работать в кузнечном цехе своего родного завода. "Эх, какой я был кузнец!" - часто повторял он.
Ему было, как и мне, 19 лет. В одной из атак его взвод вырвался вперед, попал в окружение и вынужден был пробиваться назад, к своим. Иванов то ли напоролся на мину, то ли попал под артобстрел. Этого он не помнит. Увидел яркую вспышку, успел прикрыть глаза руками - и все. Я его старался успокоить, отвлечь от горестных дум. И Иванов охотно подхватывал любой разговор, преимущественно, конечно, о фронтовых былях и небылицах.
Два других офицера были постарше званием и годами. Они воевали с первого дня войны. Многое пережили за эти годы. Помню лишь, что одного из них сестра почтительно называла Василич. Казался он мне пожилым, хотя, сейчас понимаю, было ему не больше тридцати пяти. Оба майора слушали наши торопливые рассказы о боях, о товарищах, о родителях. У них были серьезные ранения: у одного - в грудь, у другого - в живот. О себе они рассказывали мало, предпочитая больше слушать. И только когда кому-либо из них или нам приходили письма, оба майора принимали активное участие в обсуждении домашних новостей.