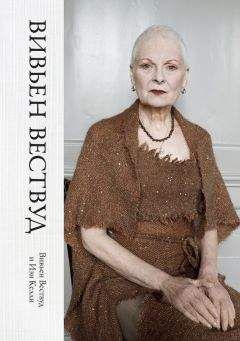Наши с Малкольмом отношения начинались непросто. Пожалуй, когда ты неожиданно беременеешь, по-другому и быть не может. А еще я сильно уставала. Ближе к ночи Малкольм становился таким разговорчивым – и больше всего он любил говорить о себе. Еще задолго до того, как мы с ним переспали, когда он болел и ночевал у меня, он каждую ночь не давал мне спать, рассказывая о своей жизни. И это тянулось бесконечно. А на следующий день мне нужно было идти на работу в школу. Я была измотана. Не могла сконцентрироваться. Так что, когда мы сошлись, мы переживали не самое счастливое время. Я страшно уставала, а Малкольм жил своей студенческой жизнью и даже не каждую ночь появлялся дома. Мы разговаривали о том, как нам быть, но трудность состояла в том, что я все еще была замужем за Дереком, так что, если бы мы с Малкольмом захотели оформить наши отношения, мы бы не смогли. К тому же Малкольм получал студенческую стипендию, так что я не могла быть у него на иждивении. Мы не могли получать пособие по безработице, социальные пособия, потому что в таком случае ему как отцу ребенка пришлось бы содержать меня, а тогда он должен был бы бросить колледж, а я не могла его просить об этом. Поэтому я видела единственный выход: продолжать учительствовать до самого рождения Джо, а после родов как можно скорее снова выходить на работу.
Стол Малкольма сегодня стоит в кабинете Андреаса… И на нем по-прежнему кактус
Шел ноябрь 1967 года, я почти месяц переходила с Джо, и мне нужно было стимулировать роды, и Малкольм знал, что я уехала в роддом. В те дни тебя клали в роддом на неделю, и я не расстроилась, когда все мужья пришли проведать рожениц, а мой не пришел, потому что он был особенным, непохожим на других мужчин. Через шесть дней, после того как я родила Джо, Малкольм наконец появился. Я как сейчас вижу его в потертом твидовом пальто, на котором тают снежинки. И старшая медсестра спросила: «Где вы были? Вы что, дальнобойщик, что ли?» А я не расстроилась: я была так рада появлению малыша Джо, что Малкольм казался мне ангелом, укутанным снегом. Когда через несколько дней меня выписали, все еще шел снег, и знаете, что мы сделали? Это так в духе Малкольма. Первое, что мы как молодые родители сделали, – пошли на собрание Социалистической рабочей партии, чтобы участвовать в каких-то троцкистских заговорах. Как в шпионском фильме, мы поднялись по пожарной лестнице на заснеженную крышу и пролезли в люк. К самой группе мы не стали присоединяться, потому что Малкольму показалось, что их лидер слишком много командует! Единственное, что Малкольм сделал для нас, – он нашел квартиру рядом с «Овалом», полем для игры в крикет. Что до всего остального, то у него не было намерения погрязнуть в семейной жизни. Он стал называть большой кактус, который мне так нравился, «папой Джо» и, пока сын был маленьким, настаивал на том, что его папа – этот самый кактус. Малкольм всегда был против того, чтобы его называли папой».
Джо родился 30 ноября 1967 года и получил имя Джозеф Фердинанд в честь картины Веласкеса «Портрет Фердинандо де Вальдес-и-Льяноса», висящей в Национальной галерее, и португальскую фамилию Корр в честь своей прабабушки, которая дала деньги на аборт. Вивьен согласилась на все и стала так устраивать быт своей новой семьи, чтобы каждый из ее мужчин – Джо, Бен и Малкольм – чувствовал себя хорошо. Они переехали в Эйгберт-Мэншнс, совсем недалеко от «Овала» в Кеннингтоне, чтобы Малкольму было легче ездить из Воксхолла в Кройдонский колледж искусств, где он предавался своему новому увлечению – радикальной политике и ситуационистскому искусству. И пока Вивьен билась, стараясь добыть пропитание для прожорливого малыша Джо и его четырехлетнего брата, лежащего с лихорадкой, и обставить маленькую квартирку китайскими фонариками и кактусами, Малкольм серьезно стал заигрывать с радикальной политикой и связанной с ней тактикой внезапных ударов, которой забавлялись в конце 60-х годов студенты школ искусств.
«Слава богу, Бен и Джо были очень спокойными детьми. Я присматривала за всеми – за всеми тремя. За малышом Джо, за Беном и за Малкольмом, который тогда еще учился. Джо я относила в ясли, Бену нашлось местечко в школе, где я преподавала. Малкольм совсем мне не помогал. Он просто не хотел. Он отказывался, говоря, что это же я решила оставить Джо. Тогда я сказала: «Малкольм, ты должен хотя бы относить Джо в ясли утром вместо меня. У меня не хватает сил». Почти каждое утро я опаздывала на работу и ужасно боялась, что меня уволят, а Малкольм валялся в постели. Ты знаешь, сколько нужно времени, чтобы покормить ребенка и все такое? Джо ел очень долго, а я думала: «Скорее, Джо, очень прошу». Я кормила его из бутылочки: у меня не было выбора, ведь я относила его в ясли. Бедняжка Джо! Я заталкивала в него молоко и еду и бежала с ним в ясли по длинной дороге, а он весил все больше и больше, а на коляску у нас денег не было. А потом садилась с Беном на автобус и ехала на работу. Моя жизнь и жизнь моих детей была очень-очень тяжелой. Хорошо, что они этого не помнят. А вечерами я стирала, раскладывала одежду, готовила и убирала, а еще подолгу готовилась к урокам. Я была на пределе. А когда я просила Малкольма помочь, он поднимал на меня глаза и говорил, имея в виду Джо: «Можешь отдать его мне, но если отдашь, то я сразу же отнесу его в детдом». И я знала: ведь и правда отнесет, ведь он не шутит. Так что просить у него помощи я не могла. Знаю, люди подумают, что это сумасшествие какое-то. Но так все и было. В то время Малкольм был ужасен. У него для каждой матери был заготовлен свой «ужас». Малкольму не нравилось, что я разговариваю с детьми, даже с его родным сыном Джо. Он постоянно делал вид, что вовсе ему не отец. «Нет, – говорил он, – твой папочка молочник», или «Твой папочка – тот кактус в углу», или что-то в этом роде. Неудивительно, что моя мама с ним не могла поладить, и я, соответственно, в тот период жизни тоже не могла с ней видеться. Мне пришлось несладко, потому что я была предана Малкольму. Тому имелось много причин: я безоговорочно верила в него как в художника, а он нуждался во мне. Так что я не виделась с мамой. Несмотря на это, она была к нам очень добра, она очень часто присматривала за Беном после школы. Мама любила Бена. Может, она любила Бена даже больше, чем нас с Ольгой и Гордоном, когда мы были детьми, потому что чувствовала: он серьезно обделен вниманием и она нужна ему. Мама была права. Ее любовь к нему была безмерной, она даже сама ее пугалась. Она говорила, что, когда Бен заходит в комнату, комната озаряется светом. А когда я родила Джо, мама сказала: «Я никогда не буду любить Джо так же, как Бена. Не могу себе этого позволить». Она добавила: «Я больше никогда никому не смогу дать столько любви, сколько я дала Бену».
Хотя может показаться, что Малкольм был подонком, потому что не помогал мне, но это, пожалуй, было самое плохое в его отношении ко мне. Моя позиция была проста. Я посвятила себя Малкольму. Я его любила. И верила в него. И училась у него. В долгосрочной перспективе моим детям тоже была бы от этого польза. Ведь иногда он придумывал для мальчиков какое-нибудь увлекательное занятие. Думаю, я просто слишком сильно ценила то, что Малкольм знал больше, чем я, и мог меня чему-то научить. Короче, скажу так: знаю, люди подумают, что я была тряпкой, что смирилась с его высокомерием по отношению ко мне и сыновьям, но в то же время я знала, что он очень сильно зависит от меня. И повторяла себе: я нужна ему. Он был мне нужен из-за его знаний, а я ему – потому что он был нужен мне. Мне было о чем с ним поговорить, и я росла благодаря нашим разговорам. Разве идеи – не самое важное? Так что я не могла его бросить. И готова была все стерпеть. Я была ему предана».
Пожалуй, основополагающим документом для зарождавшегося панка стала работа Ги Дебора «Общество спектакля». Она оказала огромное влияние на студентов школ искусств тех лет. Дебор был теоретиком, родоначальником Ситуационистского интернационала, основанного еще в начале 1950-х годов, но ставшего широко известным в Европе и отчасти в студенческой среде Америки лишь к концу 60-х. До некоторой степени «Общество спектакля» стало голосом и теоретической базой «Красного мая»[8] 1968 года в Париже, случившегося спустя несколько месяцев после рождения Джо. Впервые после революций 1840-х годов студенты и художники оказались способны свергнуть правительство и раздуть огонь перемен. Идеи ситуационистов гласили, что художники и мыслители несут моральную ответственность за то, чтобы сломать границы между «искусством» и «настоящей жизнью» и так избежать коммерциализации первого. Иными словами, художники и активисты должны были намеренно сбивать с толку зрителей и слушателей и в идеале выполнять роль агентов-провокаторов, устраивая вычурные и потенциально рискованные хэппенинги, которые являлись бы абсурдным отражением существующего положения вещей. Искусство и протесты должны были переместиться на улицы, не сдерживаемые никакими рамками. Привычная манера и структура была отвергнута, как отвергнуты были общепринятые художественные средства, строгая критика галерей и журналистов и академичность. Последователей ситуационистов легко узнать в любителях популярных нынче флешмобов, веселых и абсурдных, которые быстро организуются посредством социальных сетей. В конце 60-х организовать массовое действо было немного сложнее. Проводя ситуационистские хэппенинги, которые нельзя было назвать ни акцией протеста, ни искусством, ни уличным театром, Малкольм увлеченно смешивал сюрреализм, дадаизм и «наркоманскую» эстетику, популярную в те годы. Например, через месяц после рождения Джо Малкольму пришла в голову идея вместе с Фредом Верморелем и несколькими другими студентами-художниками переодеться в Санта-Клаусов и приступом взять отдел игрушек в универмаге «Harrods», а после раздать добычу. Немногие молодые отцы придумали бы столь анархичный ответ на коммерциализацию детства. Охранники целых полчаса разгоняли веселую толпу, и у нескольких счастливчиков, хотя и не у Джо, Рождество наступило раньше, а Малкольм впервые вдохнул пьянящий воздух славы: о нем написали в прессе, его поступок вызвал множество споров и создал ему дурную репутацию в художественных кругах.