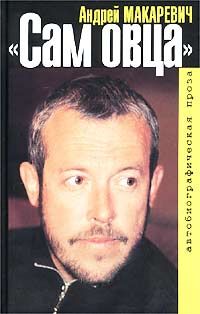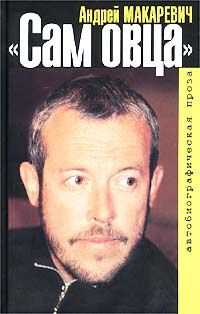Мне кажется, что пошлостью может оказаться неудачное зависание между двумя жанрами. Грубо говоря: Мона Лиза — это классика, Мона Лиза на пивной банке — это пошлость, а четыре пивных банки с Моной Лизой — это уже поп-арт. Границы при этом могут быть весьма тонкими.
Поп-арт вообще часто балансирует на волосок от пошлости. Может, именно поэтому данный арт — поп? (Сергей Соловьев: «Пошлость — это все общепринятое». Лихо сказано, да?) Иногда магия имени или персоны здорово заслоняет истинное положение вещей. Недавно я пересмотрел фильм «Imagine» и вдруг с грустью понял, что это невероятно пошлый ролик — ранее магия Джона Леннона это заслоняла, и казалось, что все, к чему он прикасается, становится великим.
Нет, не все.
Помните? Сначала он с Йокой идет по этакому затуманенному саду, причем он в клешах и в шляпе, а она в вечернем платье. Потом они останавливаются у некой белой виллы, архитектурой своей являющей мечту нового русского (колонны, портик, все дела), и каким-то образом просачиваются внутрь сквозь закрытую дверь. Далее после глубокомысленного титра «This is not here» они оказываются в белой зале, Леннон — сразу за белым роялем, а Йоко раздвигает шторы на окнах. В общем, по стилистике все это гораздо больше подходит к творчеству группы «Белый орел», чем к песне «Imagine». А ведь смотрел я это раньше и не замечал всей этой клюквы — Леннон заслонял. Сидел и восторгался, робея.
Интересно — все мои друзья и знакомые, говоря о пошлости, примеряли ее прежде всего к своей профессии.
Леша Романов: «Не могу определить даже для себя словами, но точно знаю, когда надо выключить телевизор. Это что-то из области сокровенных ощущений, а говорить о сокровенном вслух — это и есть пошлость».
Оксана Ярмольник — слово в слово: «Пошлость — это сокровенное, высказанное вслух». Согласны? По-моему, все-таки не всегда. А то бы мы всю жизнь общались какими-то обиняками.
Очень мне хотелось получить определение пошлости от Юза Алешковского. Ибо уверен — из всех моих друзей и знакомых он как никто чувствует эту субстанцию. Вот что он написал мне из-за океана: «Странное дело — то, что мы безошибочно чувствуем и мыслим как очевидную пошлость в манерах поведения претенциозных людей, в безвкусице крикливой моды, в дешевке лжеремесел, наконец, в адском количестве подделок орангутангов от музыки, литературы, живописи и дизайна — хоть ты ее, на хуй, убей, выскользает из формул определения этого малоприятного явления, возможно, более древнего, чем проституция и желтая журналистика.
Если не растекаться мыслью по Древу Добра и Зла, то пошлость — это более-менее точная примета частичного, порой полнейшего отсутствия души в ком-нибудь и в чем-нибудь. Отсюда — не красота, всегда исполненная достоинства, а вызывающе нелепая красивость, не всепоглощающая страсть любовного соития, а занятие похотливой нелюбовью, внимание мазил авангардизма-задогардизма не зову Музы, а модозвону баксов и т.д. и т.п. При всем при том пошлость — не только фальшак, внушивший сам себе уверенность в обеспеченности золотцем души, но, к сожалению, ставший денежной единицей и критерием псевдоэстетики массового бескультурья.
Стоп! Треп бесполезен. Шлюховатая пошлость все равно выскользнет из формул определения ее сути. Это тебе, Андрюша, не водичка дождя небес, родничка, колодца и всего Мирового океана, покоящаяся всего лишь в паре буковок и в цифирке всего одной — в Н2О».
А вот Боря Гребенщиков не раздумывая сказал следующее: «Пошлость — это боязнь отказаться от привычного и надоевшего самому тебе видения мира».
Может, кому-то это покажется спорным. Но мне по ощущению очень близко. И кстати, совпадает со старинным, изначальным значением слова. Круг замыкается.
Право, не знаю, что в этой истории поучительного или вообще интересного, но на меня она произвела очень сильное впечатление, так что — пусть уж будет.
На самой заре существования «Машины времени» (тогда еще — «Машин времени» — году в 71-м) дети каких-то родителей пригласили нас выступить на Николину гору.
Нас еще крайне редко вообще куда-нибудь приглашали, и каждое такое приглашение было событием. Стояла прекрасная ранняя осень, было тепло и солнечно, мы поймали в назначенный день какой-то «рафик», закидали в него наш чудовищный первобытный аппарат и поехали. «Рафик» оказался без окон и сидений и представлял из себя изнутри глухую железную коробку, вызывающую ассоциации с газовой камерой, и в дороге мы чуть не задохнулись — когда он остановился наконец на зеленых просторах Николиной горы, мы из него не вышли, а выпали.
Сам концерт (громко сказано!) состоялся в каком-то крохотном деревянном клубике при небольшом скоплении молодых людей и ничего не понимающих старушек и никаких воспоминаний не оставил. Когда мы уже сворачивали свое барахло, к нам вдруг подошел Никита Михалков. Он был очень большой и красивый. Знакомы мы не были, а кино «Я шагаю по Москве» видели все неоднократно, и степень робости моей перед ним была высока необычайно. Сначала Никита Михалков присел к роялю и наиграл одним пальцем мелодию из одноименного фильма — как позывные. А потом объявил, что незачем нам прямо сейчас ехать в Москву, потому что он приглашает нас к себе на дачу пить водку.
На дачу к Михалкову пить водку!
Мы быстренько загрузили в тот же жуткий «рафик» инструменты вместе с Борзовым и Мазаем (им зачем-то надо было вернуться в Москву до ночи) и отправились в гости.
Был сказочный ясный вечер, на участке у Михалкова стоял длинный дощатый стол, уставленный водкой и овощами. Народу было много, я практически никого не знал, но понимал, что раз мы все у Михалкова, то это его друзья, а значит, тоже известные и талантливые люди, и чувствовал себя в этой связи застенчиво и важно одновременно. Водку пили из каких-то здоровенных деревянных пиал, темп потребления был высок, деликатность не позволяла мне отставать от окружающих, а поскольку мой юный организм был к тому времени воспитан исключительно на дешевых сортах портвейна и к водке не готов, скоро я оказался в состоянии полной эйфории.
Звезды качались над головой, и наш стол, как корабль с замечательными людьми, сидящими по бортам, плыл в какое-то счастье. А после того как Никита, после очередной пиалы уронив голову на ладонь, необыкновенно задушевно спел песню про коня, который гулял на воле, я совсем размяк. Вдобавок ко всему слева от меня обнаружилась очаровательная девушка Алена, мы мило болтали обо всем, выказывали друг другу знаки внимания, и наши чувства крепли с каждой минутой. Когда Алена вдруг засобиралась домой, я обнаружил, что наступила ночь.
Страсть кипела во мне, и я не хотел отпускать девушку, да и ей не хотелось покидать компанию, поэтому мы решили, что сейчас я провожу ее до ее дачи, она как будто ляжет спать, а сама, обманув строгих родителей, вылезет в окно, мы вернемся к Никите и продолжим веселье.