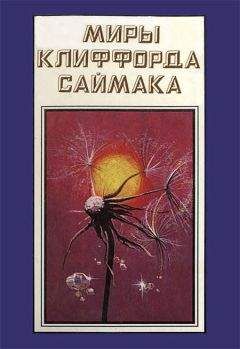Вскоре после нашего прибытия в Смоленск, нам раздали по небольшому пайку муки, равному одной унции сухарей, но и это было больше, чем можно было надеяться. У кого были котлы, тот варил кашу, другие пекли лепёшки в золе и съедали их полусырыми. Жадность, с какой солдаты набрасывались на еду, чуть не погубила их, многие серьёзно заболели и чуть не умерли. Что касается меня, то я не ел супа с 1-го ноября и, хотя каша из ржаной муки была тяжела как свинец, мне посчастливилось не заболеть.
После нашего прибытия несколько солдат полка, уже больные, но мужественно дошедших сюда, умерли, а так как им были предоставлены лучшие места в скверных лачугах, мы поспешили удалить покойников и занять их места.
Отдохнув и, несмотря на холод и падавший снег, я собрался разыскать одного из моих товарищей, с которым я был так близок, что между нами никогда не было счетов – наши кошельки и имущество всегда были общими. Звали его Гранжье.[39] Я не виделся с ним от самой Вязьмы, откуда он вышел раньше меня с отрядом, эскортируя фуру с багажом маршала Бессьера. Я слышал, что он прибыл два дня тому назад и живёт в предместье. Желание увидеться с ним, надежда разделить с ним жилье и продовольствие, заставили меня немедленно приняться за розыски. Захватив с собой ранец и оружие, и никого не предупредив, я пошёл назад по той же дороге, по которой мы пришли. Несколько раз я падал на скользком крутом спуске, по которому мы подымались и, наконец, дошёл до ворот, через которые мы вошли в Смоленск.
У ворот я остановился взглянуть, как поживают люди, оставленные нами в бараке и состоявшие из баденских солдат, часть которых образовала гарнизон. Каково же было моё удивление, когда я увидел моего товарища, которого мы оставили вместе с другими больными, пока мы не придём за ними, лежащего передо мной у дверей барака совершенно раздетого, в одних панталонах – с него сняли всё, даже обувь.
Баденцы сообщили мне, что солдаты полка, пришедшие сюда за своими товарищами, застали его без признаков жизни, тогда они обобрали его, затем, забрав с собой двух больных, вместе с ними обошли вал, рассчитывая найти дорогу получше. Пока я находился в бараке, туда прибыло ещё несколько несчастных солдат из разных полков, они тащились с трудом, опираясь на своё оружие. Другие, на противоположном берегу Днепра и упавшие в снег, кричали и плакали, умоляя о помощи. Но немецкие солдаты, либо ничего не понимали, либо не хотели понимать. К счастью, молодой офицер, командовавший постом, говорил по-французски. Я попросил его, во имя человеколюбия, послать помощь людям по ту сторону моста. Он ответил, что со времени своего прибытия половина его отряда только этим и занимается, и что теперь у него в распоряжении почти нет людей. Его караульный пост переполнен больными и ранеными до такой степени, что не хватает места.
Однако, по моим настояниям, он послал ещё троих и скоро они вернулись, ведя под руки старого егеря конной Гвардии. Они рассказывали нам, что там ещё много людей, которых надо привести, но поскольку у них тогда не было такой возможности, их уложили вокруг большого костра до того момента, когда можно будет пойти и забрать их. У старого егеря, по его словам, были отморожены все пальцы на ногах, и он обмотал ноги кусками овчины. Ледяные сосульки свисали с его бороды и усов. Его подвели к огню и усадили. Тогда он принялся проклинать русского царя Александра, Россию и «Русского бога». Потом он спросил у меня, была ли раздача водки. Я отвечал:
– Нет, пока, и вряд ли будет.
– В таком случае, – промолвил он, – мне лучше умереть!
Молодой немецкий офицер не выдержал, видя страдания старого воина, подняв плащ, он вытащил из кармана флягу и подал старику.
– Спасибо, – сказал тот, – вы спасли меня от смерти. Если представится случай отдать за вас жизнь, будьте уверены, что я не поколеблюсь ни на минуту! Запомните Роланда, конного егеря Старой Императорской Гвардии, ныне пешего, вернее, безногого. Три дня тому назад я вынужден был расстаться со своей лошадью – чтобы избавить её от дальнейших страданий, я пустил ей пулю в лоб. Потом я отрезал у неё кусок мяса от задней ноги и теперь собираюсь закусить.
Сказав это, он вынул из ранца кусок конины, первым делом предложил офицеру, давшему ему водки, а потом и мне. Офицер дал ему ещё глоток и просил оставить флягу себе. Старый егерь уж и не знал, чем выразить ему свою признательность. Он снова просил офицера помнить о нем и в гарнизоне, и в походе и, наконец, сказал:
– Хорошие люди никогда не гибнут!
Но тотчас спохватился, сообразив, что сказал ужасную глупость.
– Хотя, – сказал он, – тысячи людей, что погибли за эти три дня, были не хуже меня. Вот я побывал в Египте, поверьте, видал всякое, а всё-таки не сравнить с тем, что сейчас происходит. Надо надеяться, что теперь уже скоро конец нашим мучениям, говорят, нас расквартируют до весны, а там мы отыграемся.
Бедный старик, которому два-три глотка водки развязали язык, не подозревал, что наши бедствия только начинаются!
Было часов одиннадцать, однако, я не потерял надежду отыскать Гранжье, хотя бы и ночью. Я попросил дежурного офицера указать мне, где живёт маршал Бессьер, но, либо он неправильно мне объяснил, либо я не понял его, но только я сбился с дороги и очутился где-то, имея по правую руку вал, под которым протекал Днепр. Слева от меня лежало пустое пространство, там была прежде улица, тянувшаяся под валом, и все дома теперь были сожжены и разрушены бомбардировкой. Несмотря на темноту, все же виднелись кое-какие развалины, выступавшие точно тени из глубокого снега. Дорога, по которой я шёл, была очень плохая, я так сильно утомился, пройдя по ней немного, что пожалел, что отважился идти туда один. Я уже собирался повернуть назад и отложить до завтра свои поиски Гранжье, как вдруг услышал шаги и, обернувшись, узнал одного из баденских солдат, несущего небольшой бочонок на плечах, вероятно, с водкой. Я окликнул его – он не отвечал, я пошёл за ним следом – он ускорил шаг. Я – тоже. Он стал спускаться по крутому склону, я хотел сделать то же, но поскользнулся. Я упал и, скатившись вниз одновременно с ним, угодил в дверь подвала, которая отворилась под тяжестью моего тела, так что я очутился внутри раньше солдата.
Едва я собрался с мыслями и огляделся, как был оглушён криками на разных языках десятка людей, валявшихся на соломе вокруг костра. Тут были французы, немцы, итальянцы, и я сразу понял, что это была банда воров и мародёров – в походе они либо шли впереди армии и первые входили в дома, попадающиеся на пути, либо устраивались бивуаками в деревнях. Когда армия, страшно утомлённая, приходила на место стоянки, они выходили из своих укромных тайников, бродили вокруг бивуаков, уводили лошадей, похищали вещи офицеров и выступали в путь спозаранку, на несколько часов раньше колонны – и так повторялось изо дня в день. Словом, это была одна из тех шаек, которые образовались сразу же после резкого похолодания. Со временем таких шаек становилось все больше и больше.