Вспомнив о своих поэтических способностях, я решил написать острые пародии на злобу дня. Главной заботой дня было, конечно, танго. Я написал первую пародию «Танго — танец для богов». Потом ещё пародию «Фурлана» (это было название нового танца, появившегося вслед за танго). Потом третью, в которой вышучивалась любовная история светской дамы, изменившей мужу с богатым поклонником из‑за каракулевого сака, который ей очень хотелось иметь и который был очень моден в этом сезоне в Москве. Прошли годы, и из этого каракуля она теперь шьёт зимние шапки своим детям… Пародия называлась «Тёплый грех».
Потребовав себе фрак напрокат, я выходил немедленно после танго Крюгер и Валли и довольно бесцеремонно вышучивал их. Публика снова была в восторге…
Однажды в театр пришёл журналист, кажется, Сергей Яблоновский из «Русского слова» — самой большой газеты того времени — и написал рецензию о нашем театре. Нельзя сказать, чтобы она была хвалебной — критик всех поругивал, только обо мне выразился так: «остроумный и жеманный Александр Вертинский».
Этого было достаточно, чтоб я задрал нос и чтоб все наши актёры меня возненавидели моментально.
Но уже было поздно. Успех мой шагал сам по себе. Меня приглашали на вечера. А иногда даже писали обо мне. Однако кокаин я не бросил.
Марье Александровне пришлось дать мне наконец жалованье двадцать пять рублей в месяц, что при борще и котлетах уже являлось каким‑то базисом, на котором можно было разворачиваться. Но увы… деньги эти шли главным образом на покупку кокаина.
Вернулась из поездки моя сестра. Мы поселились вместе, сняв большую комнату где‑то на Кисловке. К моему великому огорчению, она тоже не избежала ужасного поветрия и тоже «кокаинилась». Часто целыми ночами напролёт мы сидели с ней на диване и нюхали этот проклятый белый порошок. И плакали, вспоминая своё горькое детство. Нас подобралась небольшая компания. Мы вместе ходили по ресторанам, вместе нюхали до утра.
Куда только мы не попадали! В три-четыре часа ночи, когда кабаки закрывались, мы шли в «Комаровку» — извозчичью ночную чайную у Петровских ворот, где в сыром подвале пили водку с проститутками, извозчиками и всякими подозрительными личностями и нюхали, нюхали это дьявольское зелье.
Конечно, ни к чему хорошему это привести не могло. Во-первых, кокаин разъедал слизистую оболочку носа, и у многих таких, как мы, носы уже обмякли, и выглядели мы ужасно, а во-вторых, наркоз уже почти не действовал и не давал ничего, кроме удручающего, безнадёжного отчаяния.
Я где‑то таскался по целым дням и ночам и даже сестру Надю стал видеть редко. А ведь мы очень любили друг друга. Надя была единственным близким мне человеком в этом огромном шумном городе. И я не сберёг её! Что это — кокаин? Анестезия. Полное омертвение всех чувств. Равнодушие ко всему окружающему. Психическое заболевание…
Помню, однажды я выглянул из окна мансарды, где мы жили (окно выходило на крышу), и увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из‑под марковского кокаина. Сколько их было? Я начал в ужасе считать. Сколько же я вынюхал за этот год!
И в первый раз в жизни я испугался. Мне стало страшно! Что же будет дальше? Сумасшедший дом? Смерть? Паралич сердца? А тут ещё галлюцинации… Я уже жил в мире призраков!
В одну минуту я понял все. Я встал. Я вспомнил, что среди моих знакомых есть знаменитый психиатр — профессор Баженов. Я вышел на Тверскую и решил ехать к нему. Баженов жил на Арбате. Подходя к остановке, я увидел совершенно ясно, как Пушкин сошёл со своего пьедестала и, тяжело шагая «по потрясённой мостовой» (крутилось у меня в голове), тоже направился к остановке трамвая. А на пьедестале остался след его ног, как в грязи остаётся след от калош человека.
«Опять галлюцинация! — спокойно подумал я. — Ведь этого же быть не может».
Тем не менее Пушкин стал на заднюю площадку трамвая, и воздух вокруг него наполнился запахом резины, исходившим от его плаща.
Я ждал, улыбаясь, зная, что этого быть не может. А между тем это было!
Пушкин вынул большой медный старинный пятак, которого уже не было в обращении.
— Александр Сергеевич! — тихо сказал я. — Кондуктор не возьмёт у вас этих денег. Они старинные!
Пушкин улыбнулся.
— Ничего. У меня возьмёт!
Тогда я понял, что просто сошёл с ума.
Я сошёл с трамвая на Арбате.
Пушкин поехал дальше.
Профессор Баженов тотчас принял меня.
— Ну? В чем дело, юноша? — спросил он.
— Я сошёл с ума, профессор, — твёрдо выговорил я.
— Вы думаете? — как‑то равнодушно и спокойно спросил он.
— Да. Я уверен в этом.
— Ну тогда посидите пока. Я занят, и мне сейчас некогда.
И он начал что‑то писать. Через полчаса он так же спокойно вернулся к нашему разговору.
— Из чего же вы, собственно, заключаете это? — спросил он просто, как будто даже не интересуясь моим ответом.
Я объяснил ему все, рассказав также и о том, как ехал с Пушкиным в трамвае.
— Обычные зрительные галлюцинации, — устало заметил он. Минуту он помолчал, потом взглянул на меня и строго сказал: — Вот что, молодой человек, или я вас посажу сейчас же в психиатрическую больницу, где вас через год-два вылечат, или вы немедленно бросите кокаин! Сейчас же!
Он засунул руку в карман моего пиджака и, найдя баночку, швырнул её в окно.
— До свидания! — сказал он, протягивая мне руку. — Больше ко мне не приходите!
Я вышел. Все было ясно.
Был сентябрь 1913 года. В театрах начинался зимний сезон. В Московском Художественном были объявлены конкурсные испытания — приём статистов, или сотрудников, как это называлось. Я пошёл на конкурс. Народу было видимо-невидимо. Из самых дальних медвежьих углов России понаехали в Москву алчущие и жаждущие юные лицедеи. Многие были настолько бедны, что не имели даже средств, чтобы снять комнату, и спали на вокзалах и на скамейках парков. Все волновались, заглядывали в какие‑то тетрадки и книжечки стихов, что‑то повторяли, что‑то заучивали наизусть, разговаривали сами с собой вслух и, никого не замечая, бродили по коридорам и фойе театра, бормоча и жестикулируя. Мужчины, подражая провинциальным актёрам, носили буйные шевелюры и бархатные блузы с небрежно повязанными бантами. Женщины — гладко зализанные, с локонами-сосисками, свисавшими с боков, одеты в чёрные пышные платья из тафты или бархата, затянутые в талии и широкие книзу. Шуршащие и мягкие, стилизованные под героинь тургеневских пьес, с белыми строгими камеями в виде брошек, они сжимали в мокрых руках маленькие бархатные книжечки стихов, изданные в виде католических молитвенников.


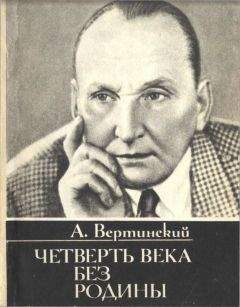
![Анатолий Добрынин - Сугубо доверительно [Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.)]](https://cdn.my-library.info/books/32820/32820.jpg)

