Среди знакомцев наших были два журналиста — Коля Вержбицкий и Женя Хохлов. Много дней и главным образом ночей провёл я в их обществе, но где они работали и на что они жили, так до сих пор и не знаю. Парни они были задушевные и, главное, большие мастера по части раздобывания денег.
Коля, толстый, бритый наголо, носил какую‑то тюбетейку и был похож на татарина, а Женя был худой, длинный, как жердь, носил рыжую бороду, которую все время задумчиво навивал на палец.
Кроме них было ещё много других людей, выскользнувших уже из моей памяти, которые вертелись вместе с нами на карусели тогдашней московской жизни. Это были 1910—1912 годы…
В нашем мире богемы (а я пишу только о нем) каждый что‑то таил в себе, какие‑то надежды, честолюбивые замыслы, невыполнимые желания, каждый был резок в своих суждениях, щеголял надуманной оригинальностью взглядов и непримиримостью критических оценок. Все мечтали обратить на себя внимание любой ценой — дулись и пыжились, как лягушки из крыловской басни. А надо всем этим гулял хмельной ветер поэзии Блока, отравившей не одно сердце мечтами о Прекрасной Даме, о Незнакомке…
И Горький, будто нам угрожая, писал:
А вы на земле проживёте,
Как черви слепые живут!
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!
Стихи эти читались на всех концертах и действовали сокрушающе. Все вдруг испугались этой перспективы. Как будто о каждом обязательно надо было писать песню или рассказывать сказку! Помощники присяжных поверенных в безукоризненных визитках от Делоса стали писать стихи и почитывать их томным голосом на именинах за кулебяками; зубные врачи вешали у себя в приёмной портреты артистов с цитатами из ибсеновских пьес; доктора рассеянно выслушивали больных, но могли часами спорить о постановке андреевской «Жизни человека». Московские купцы скупали всякую живописную дрянь, выставленную у Данциро или Аванцо, на Кузнецком. В «Кружке» на Дмитровке ежедневно устраивались лекции, литературные «суды» над героями романов, вечера поэзии и пр.
Белотелые купеческие дочки, налитые жиром, надев скромные чёрные юбки с белыми блузками, тихо сидели на всех лекциях с тетрадками в руках и что‑то записывали… Курсистки, приглашавшие к себе товарищей и подруг на чашку чая, укутывали электрические лампочки красной кисеёй, создавая интим, и читали стихи, до одури надушившись пронзительным «лориганом Коти» или ландышем «Иллюзион-Дралле». Принимали гостей, полулёжа на кушетках, курили папиросы из длинных мундштуков, стриглись под мужчин и кутались в пёстрые шали (стиль этот назывался «Сафо»). Молодые актрисы пускали себе в глаза атропин, чтобы шире были зрачки, говорили «унывными» голосами, звенящими и далёкими, точно из другой комнаты:
Я люблю лесные травы ароматные,
Поцелуи и забавы невозвратные…
Все, что манит и обманет нас загадкою
И навеки сердце ранит тайной сладкою!
Читая стихи, концы строчек они проглатывали для большего впечатления…
Молодые актёры из глубокой провинции держали экзамен на статистов при Московском Художественном театре и по страшнейшему отбору из пятисот человек допускались в количестве приблизительно пяти к конкурсу. Из них брали двух-трёх. В театре они годами изображали толпу. И это считалось за счастье и называлось: «Попасть в Художественный театр». Пакгаузы этого театра были битком набиты «талантами»… Запас был лет на десять!
В «Трёх сёстрах» какой‑нибудь счастливец выносил в 3‑м акте шарманку. Он благоговейно «играл» на ней, крутя рукоятку и «переживая», потом уходил, взвалив шарманку на спину. Утром на репетиции Станиславский говорил ему:
— Вот что. Вчера, уходя, вы неискренне встряхнули шарманку…
И все. Роль эта уже отдавалась другому…
В какой‑то пьесе, не помню, должно было быть море. Для этого на сцене было разложено огромное размалёванное полотно, по краям которого сидели статисты. Сидели они на корточках и, задыхаясь, изображали «волнение» этого моря. Утром на репетиции «большие» актёры, явно издеваясь, говорили им:
— Вы вчера очень талантливо сыграли. Это море — то!
На приёмных экзаменах темпераментные молодые люди, приехавшие из глуши, поставив стул перед собой, буйно декламировали:
Без отдыха пирует
С дружиной удалой
Иван (тьфу!) Васильич (тьфу!) Грозный (тьфу)
Под матушкой-Москвой…
— А зачем вы плюётесь? — спрашивали его.
— Это лучшее средство для смазки горла, — отвечал молодой лицедей.
Нежные, худосочные девицы после отрывка из Достоевского или пяти строк прочитанного стихотворения уже бились в «настоящей» истерике — к удовольствию экзаменаторов, требовавших «подлинности чувств».
Так же было и в других театрах. Молодые актёры и актрисы томились годами на выходах и увядали. Одни, разочаровавшись, бросали сцену и выходили замуж, иные кончали жизнь самоубийством. Надо было иметь меценатов-покровителей, или богатых любовников, или влиятельных мужей и родителей, а иначе… В поэзии и литературе господствовали декадентские влияния. В стихах воспевались неестественные красоты:
«О закрой свои бледные ноги…» — восклицал Брюсов, и сатирик Саша Чёрный добавлял:
«Бледно-русые ноги свои!»
Появился журнал «Перевал», в котором на дорогой ватмановской бумаге печатались «парфюмерно-изысканные» опусы Ауслендера из жизни маркиз и принцесс.
Продраться сквозь этот лес благополучно устроившихся бездарностей было невозможно.
Все это рождало протест. Мы, богема того времени, — были напичканы до краёв «динамитом искусства», мы могли сказать новое. Но нас никуда не пускали и не давали высказаться.
Вот тут‑то и появился кокаин.
Кто первый начал его употреблять? Откуда занесли его в нашу среду? Не знаю. Но зла он наделал много.
Продавался он сперва открыто в аптеках, в запечатанных коричневых баночках, по одному грамму. Самый лучший, немецкой фирмы «Марк», стоил полтинник грамм. Потом его запретили продавать без рецепта, и доставать его становилось все труднее и труднее. Его уже продавали «с рук» — нечистый, пополам с зубным порошком, и стоил он в десять раз дороже. На гусиное пёрышко зубочистки набирали щепотку его и засовывали глубоко в ноздрю, втягивая весь порошок, как нюхательный табак. После первой понюшки на короткое время ваши мозги как бы прояснялись, вы чувствовали необычайный подъем, ясность мысли, бодрость, смелость, дерзание. Вы говорили остроумно и ярко, тысячи оригинальных мыслей роились у вас в голове. Перед вами как бы открывался какой-то новый мир — высоких и прекрасных чувств. Точно огромные крылья вырастали у вашей души. Все было светло, ясно, глубоко, понятно. Жизнь со своей прозой, мелочами, неудачами как бы отодвигалась куда‑то, исчезала и уже больше не интересовала вас. Вы улыбались самому себе, своим мыслям, новым и неожиданным, глубочайшим по содержанию.


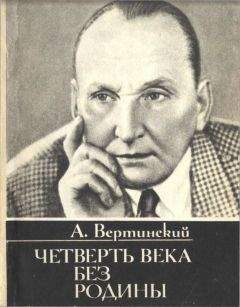
![Анатолий Добрынин - Сугубо доверительно [Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962-1986 гг.)]](https://cdn.my-library.info/books/32820/32820.jpg)

