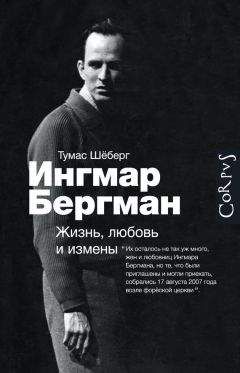Дождливым днем — моросящий хлюпающий дождь зарядил с утра — Тетушка ушла навестить соседку, мучавшуюся животом. Мы одни в тесной жаркой комнатушке. В оконца, исполосованные дождем, сочится серый свет, с чердака слышится завывание ветра. Вот увидишь, говорит Мэрта, после этого дождя начнется настоящая осень. Я вдруг понимаю, что дни сочтены, что бесконечность тоже имеет конец, скоро предстоит разлука. Мэрта перегибается через стол, обдавая меня запахом сладкого молока. В четверть восьмого из Борленге идет товарняк, говорит она. Я слышу, когда он отправляется. И тогда я буду думать о тебе. А ты услышишь и увидишь его, когда он будет проходить мимо Воромса. И тогда ты
думай обо мне.
Она протягивает широкую загорелую ладошку с грязными обкусанными ногтями. Я кладу сверху свою руку, Мэрта сжимает мои пальцы. Наконец-то я молчу, ибо неизбывная грусть лишила меня слов.
Наступила осень, нам пришлось надеть башмаки и чулки. Мы помогали собирать репу, поспели яблоки, начались заморозки, воздух и земля превратились в стекло. Запруду рядом с домом добрых темплиеров затянуло тонкой корочкой льда, мать Мэрты стала собираться в дорогу. Днем еще жарко светило солнце, вечерами холод пронизывал до костей. Поля были запаханы, на гумнах грохотали молотилки. Мы иногда помогали по хозяйству, но предпочитали почаще исчезать. Однажды, выпросив лодку у Берглюнда, мы отправились ловить щук. Поймали большую рыбину, которая тяпнула меня за палец. Когда Лалла чистила щуку, она обнаружила у нее в желудке обручальное кольцо. Под лупой бабушка разглядела гравировку — Карин. Несколько лет назад отец потерял свое кольцо у Йимона. Но это отнюдь не значило, что это было то самое кольцо.
В одно промозглое утро бабушка велела нам съездить в лавку, которая находилась на полпути между Дуфнесом и Юрму. Нас подбросит туда сын Берглюнда — он едет в ту же сторону продавать лошадь. Мы трясемся на телеге, медленно, с трудом преодолевающей разбитую дождями дорогу. Считаем встречные и обгоняющие нас автомобили. За два часа насчитали всего три. В лавке набиваем ранцы и направляемся домой — пешком. Подойдя к паромной переправе, усаживаемся на выброшенное рекой бревно, пьем яблочный напиток «Поммак» и едим бутерброды. Я беседую с Мэртой о сущности любви. Заявляю, что не верю в вечную любовь, человеческая любовь эгоистична, так говорит Стриндберг в «Пеликане». Любовь между мужчиной и женщиной, доказываю я, — в основном распутство. Рассказываю о красивой, но толстой даме, которая занимается любовью с моим отцом в ризнице вечером по четвергам после причащения. «Поммак» выпит, Мэрта бросает бутылку в реку. Я рассказываю о трагических любовных парах мировой литературы, слегка рисуясь своей начитанностью. И вдруг прихожу в замешательство, кружится голова, я смущенно спрашиваю, не кажется ли Мэрте, будто я чересчур разболтался. Вовсе нет, отвечает она, с серьезным видом качая головой. Я надолго замолкаю, раздумывая, не развлечь ли ее басней о моих собственных эротических переживаниях, но тут мне становится совсем нехорошо — может, «Поммак» был отравлен? Я вынужден лечь на лужайку возле дороги. Начинается мелкий, ледяной дождик. Крутой берег реки на той стороне растворяется в дымке.
Ночью выпал снег. Река еще больше почернела, зелень и желтизна исчезли совсем. Ветер стих, воцарилась всепоглощающая тишина. Белизна слепила, несмотря на сумеречный свет, ибо шла снизу, попадая на незащищенный участок глаза. Мы шли по железнодорожной насыпи к дому добрых темплиеров. Серая лесопилка одиноко сгибалась под тяжестью белизны. Приглушенно журчала вода плотины, рядом с закрытыми затворами образовалась тонкая корка льда.
Мы не могли разговаривать, не осмеливались даже смотреть друг на друга: слишком сильна была боль. Пожав руки, мы попрощались, сказав, что, может быть, увидимся следующим летом.
Потом Мэрта сразу же повернулась и побежала к дому. Я пошел по насыпи обратно к Воромсу, размышляя о том, не стоит ли — появись сейчас поезд — броситься под колеса.
В пятницу 30 января 1976 года возобновились репетиции «Пляски смерти» Стриндберга. Долго болевший Андерс Эк, по его собственным словам, совершенно поправился.
В те неожиданно выдавшиеся свободные дни писательница Улла Исакссон, режиссер Гуннель Линдблум[ 26 ] и я работали над сценарием фильма «Райская площадь» по роману Уллы. Производство картины планировалось поручить моей кинокомпании «Синематограф», съемки должны были начаться в мает. Мы были по уши заняты подготовкой — подписывали контракты, выбирали натуру. Только что завершилась работа над моим телесериалом «Лицом к лицу». На конец недели был назначен просмотр киноварианта этого фильма для приезжих американских финансистов. Несколькими месяцами раньше я закончил сценарий «Змеиного яйца», продюсером которого изъявил желание стать Дино Де Лаурентис.
Постепенно, испытывая определенные сомнения, я начал ориентироваться на США. Причина заключалась, естественно, в получении более широких экономических ресурсов — как для меня лично, так и для «Синематографа». Возможность на американские деньги делать качественные фильмы, привлекая других режиссеров, резко возросла. Меня весьма тешила роль продюсера, роль, которую, как мне кажется теперь, я исполнял не слишком удачно. «Синематограф» покоился, однако, на двух стальных опорах — моих близких друзьях и давних соратниках: Ларе-Уве Карлберг (наше сотрудничество началось в 1953 году на съемках фильма «Вечер шутов») держал в руках наш немаленький административный аппарат, а Катинка Фараго (»Женские грезы», 1954) занималась нашим все более оживленным кинематографическим производством. Мы арендовали верхний этаж красивого особняка XVIII века у фирмы «Сандревс» и оборудовали там уютные кабинеты, просмотровый зал, несколько монтажных и кухню.
Через месяц-другой нам нанесли визит два вежливых, молчаливых господина из Налогового управления. Разместившись в одном из временно пустующих кабинетов, они занялись проверкой наших счетов, а также выразили желание ознакомиться с документацией моей швейцарской фирмы «Персонафильм». Мы немедленно затребовали все бухгалтерские книги и предоставили их в распоряжение этих господ.
Ни у кого из нас не было времени заниматься молчаливыми господами, сидевшими в пустом кабинете. По своим дневниковым записям я вижу, что в четверг 22 января на нас внезапно свалился объемистый меморандум из Налогового управления. Я, не читая, препроводил его моему адвокату.
Несколькими годами раньше — думаю, это было в 1967 году, когда мои доходы начали расти с приятной, но лавинообразной скоростью, — я попросил моего друга Харри Шайна[ 27 ] подыскать мне кристально честного адвоката, который взялся бы быть моим экономическим «опекуном». Выбор пал на сравнительно молодого, имевшего хорошую репутацию Свена Харальда Бауэра, который ко всем прочим заслугам был высокопоставленной фигурой в Международной организации скаутов. Он обязался вести мои финансовые дела.