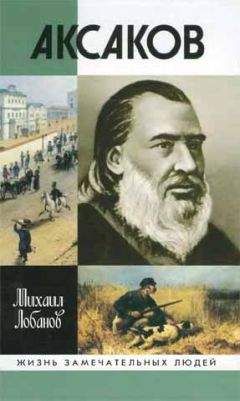Вторичная разлука наша с матерью далеко не сопровождалась такою мучительною горестью, как первая. Особенно в себе я заметил эту разницу, и, несмотря на мой детский возраст, она поразила меня и заставила грустно задуматься. Но скоро новый образ жизни поглотил все мое внимание. Меня поместили в одной комнате с тремя братьями Манасеиными, с которыми я сейчас познакомился хорошо. Ах—в же занимал маленькую особую комнату, возле нашей. Он был очень богат и, кажется, единственный сын у своей матери, вдовы. Несмотря на богатство, которое видно было в его платье, постели и во всем, он жил очень скупо; в комнате у него стоял огромный сундук, окованный железом, ключ от которого он носил в кармане. Товарищи мои думали, что в сундуке хранятся драгоценные вещи и разные сокровища; сундук возбуждал общее любопытство.
Наконец, я опять увидел некогда страшную и противную мне гимназию, и увидел ее без страха и без неприятного чувства. Я очень этому обрадовался. Я поступил опять в те же нижние классы, из которых большая часть моих прежних товарищей перешла в средние и на место их определились новые ученики, которые были приготовлены хуже меня; ученики же, не перешедшие в следующий класс, были лентяи или без способностей, и потому я в самое короткое время сделался первым во всех классах, кроме катехизиса и краткой священной истории. Священник постоянно сохранял ко мне какое-то неблагорасположение, несмотря на то, что я знал свои уроки всегда очень твердо. Замечательно, что впоследствии, когда Упадышевский спрашивал его, отчего Аксаков, самый прилежный ученик везде, не находится у него в числе лучших учеников и что, верно, он нехорошо знает свои уроки, священник отвечал: «Нет, уроки он знает твердо; но он не охотник до катехизиса и священной истории».
Прошло несколько месяцев, рассеялись последние остатки грусти по доме родительском, по привольному деревенскому житью; я постепенно привык к своей школьной жизни и завел себе несколько приятелей в гимназии и полюбил ее. Этой перемене много способствовало то, что я только приезжал в гимназию учиться, а не жил в ней. Житье у Ивана Ипатыча не так резко разнилось от моей домашней жизни, как безвыходное заключение в казенном доме гимназии посреди множества разнородных товарищей.
Ах—в, который чуждался меня и Манасеиных, да и всех в гимназии, заметив мою скромность и смиренство, стал со мной заговаривать и приглашать в свою комнату, даже потчевал своими домашними лакомствами, которые он ел потихоньку от всех; наконец, сказал, что хочет показать мне свой сундук, только таким образом, чтобы никто этого не знал. Я обрадовался. Воображение мое, полное волшебных сказок, представляло мне этот сундук хранилищем драгоценных камней, слитков золота и серебра. Мы условились с Ах—м, что я приду к нему в комнату, когда все заснут. Я так и сделал в тот же самый вечер; Манасеины не заставили меня долго ждать и скоро захрапели; я пришел к Ах—ву, у которого по ночам теплилась лампадка перед большим, богато вызолоченным образом. Хозяин зажег свечу, запер дверь, взял с меня обещание никому не сказывать о том, что увижу, и бережно отпер таинственный сундук… Каково было мое удивление! Сундук оказался набит битком гравированными, рисованными и раскрашенными лубочными картинками! Между ними находились и ландшафты, и портреты, писанные масляными красками, разумеется вроде цирюльных вывесок. Я сам был охотник до картинок; но как тут я ожидал совсем другого, то не обращал на них внимания и все еще надеялся, что на дне сундука окажется настоящее сокровище; когда же были сняты последние листы и голые доски представились глазам моим, — я невольно воскликнул: «Только-то!..» и смутил ужасно Ах—ва, который думал удивить и привести меня в восхищение. Я шепотом откровенно рассказал ему, что мы все думали об его сундуке. «Вы все дураки», — сказал с негодованием Ах—в и почти выгнал меня. Тем и кончилась наша ребячья дружба. Через несколько времени я нарушил обещание и рассказал Манасеиным, что хранится в сундуке, и мы потом не один раз, подглядывая в дверные щели, видели, как Ах—в, запершись на крючок, раскладывал свои картинки по постели, по столам, по стульям и даже по полу. Он разглядывал их, обтирал и любовался ими, как Скупой рыцарь у Пушкина своими сокровищами; почти каждый день, по большей части ночью, предавался он этому наслаждению целые часы. Мы стали подсмеиваться над Ах—м, рассказали в гимназии про его охоту к картинкам, — и резвые мальчики не давали ему прохода, требуя, чтоб он делился с другими своим богатством и показал им, как «мыши погребают кота», или как «Еруслан Лазаревич побивает несметную бусурманскую силу». Ах—в сердился, бранился и даже дрался, — ничто не помогало. Наконец, это так надоело ему, что он написал к своей матери, и она скоро совсем взяла его из гимназии. Впрочем, этому могли быть и другие причины. — Недавно я узнал, что Ах—в навсегда остался большим чудаком, но это не мешает ему иметь репутацию очень дельного хозяина.
Первые месяцы после моего поступления к Ивану Ипатычу он кое-как занимался мною и другими. Все занятие состояло в том, что он предварительно спрашивал заданные нам уроки и учил читать по-французски и по-немецки; но мало-помалу он переставал нами заниматься вовсе и стал куда-то отлучаться. Должно сказать правду: ученью нашему были полезны его отлучки, потому что в его отсутствие занимался нами Григорий Иваныч, гораздо внимательнее и лучше своего товарища, и я это очень понимал. Наконец, Евсеич сказал мне за тайну, что Иван Ипатыч сватает невесту хорошего дворянского рода и с состоянием, что невеста и мать согласны, только отец не хочет выдать дочери за учителя, бедняка, да еще поповича. Это известие оказалось совершенно справедливым.
Директором гимназии точно был определен помещик Лихачев; но своекоштные ученики долго его и в глаза не знали, потому что он посещал гимназию обыкновенно в обеденное время, а в классы и не заглядывал. — Я учился, ездил или ходил в гимназию весьма охотно. Товарищи ли мои были совсем другие мальчики, чем прежде, или я сделался другим — не знаю, только я не замечал этого, несносного прежде, приставанья или тормошенья учеников; нашлись общие интересы, родилось желание сообщаться друг с другом, и я стал ожидать с нетерпением того времени, когда надо ехать в гимназию. Притом надобно и то сказать, что я проводил там по большей части классное время, а в классах самолюбие мое постоянно было ласкаемо похвалами учителей и некоторым уважением товарищей, что, однако, не мешало мне играть и резвиться с ними во всякое свободное время и при всяком удобном случае. Домой я писал каждую неделю и каждую неделю получал самые нежные письма от матери, иногда с припискою отца. Мать уверяла меня, что не грустит, расставшись со мною, радуется тому, что я так хорошо учусь и веду себя, о чем пишет к ней Иван Ипатыч и Упадышевский; я поверил, что мать моя не грустит. Во всяком письме она свидетельствовала почтение Ивану Ипатычу и Григорию Иванычу, с которыми от времени до времени переписывалась сама. Таким образом шли дела почти целый год, то есть до июня 1802 года; в продолжение июня происходили экзамены, окончившиеся совершенным торжеством для моего детского самолюбия; я был переведен во все средние классы. В первых числах июля, на акте, я получил книжку с золотою надписью: «За прилежание и успехи» и еще похвальный лист.