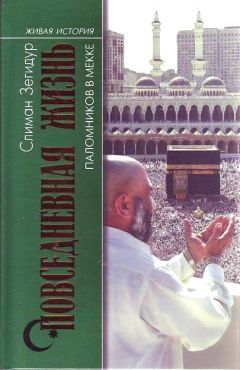Снаружи шторм на полный ход. Такой силы мы давно уже не видели. Дом буквально сотрясается от шквалов, а крышу вот-вот сорвет.
В окне не то лопнуло стекло во второй раме, не то просто отстала замазка, — с каждым порывом оно жалобно звенит, словно жалуется на свою сиротскую долю.
Что с нашими самолетами? Выдержат ли они этот шторм? Неужели мы так и не дойдем до «Ставрополя»?
У нас произошло событие, сразу выбившее всех из колеи и на долгое время давшее нам пищу для обсуждений и самых горячих споров.
Из Пенкигнея приехал на собаках чукча и так же просто, как он произнес бы слово «собака», сказал — «телеграмма».
Уже в самом звуке «телеграмма» для нас было много необычайного, сразу как-то приближавшего нас к существующему где-то миру. Мы были похожи па первых людей, попавших на луну и получивших весть с земли. С жадностью накинулись мы на смятый клочок бумаги, на котором почерком Кириленки было написано: «радиограмма № 113». Текст был неполный. В некоторых местах были пропуски, и некоторых вместо слов только несколько букв, добросовестно записанных радистом.
Так и чувствовалось, что в приеме все время были перебои и те слова, которые удалось перехватить в эфире, далось Кириленко большим напряжением слуха и нервов.
Строчка за строчкой разбирали мы, склонившись над столом, слова, произнесенные и написанные за тысячи миль от нас, и с каждой новой фразой приходили во все большее и большее возбужденна.
Тот американский самолет, который в ноябре еще (т. е. два месяца тому назад) вылетел к шхуне «Нанук» и очевидно сбился с пути, еще не найден. Бывшие на нем летчик Эйельсон и борт-механик Борланд пропали без вести.
С «Нанука» уже были произведены розыски в окрестностях Северного мыса, но никаких следов пропавшего самолет и летчиков обнаружено не было.
Нам оказывается, уже была послана радиограмма с приказом сделать все возможное, чтобы произвести полеты в 50 — 100 километрах восточнее Северного мыса, где американцы могли сделать вынужденную посадку. Кроме нас, из Иркутска должен вылететь Чухновский, чтобы произвести разведку по северному побережью, и Громов — пройти через Хабаровск — Николаевск — Охотск и замкнуть с Чухновским этот громадный круг на Северном мысе.
Для вылетающей машины Чухновского нам предписывается забросить имеющийся у нас на базе бензин на Колючинскую губу.
Разобрав радиограмму, мы на некоторое время замолчали. Каждый из нас был слишком переполнен своими мыслями, чтобы сразу заговорить.
Мы знали еще на «Литке», когда шли к бухте Провидения, что один из американских самолетов не пришел к месту назначения и не вернулся назад, по мы не знали, что вел его знаменитый полярный пилот Бен Эйельсон, имя которого известно каждому летчику, вызывая в нем чувство уважения и восхищения перед его смелыми полетами на севере и в частности перед его «прыжком» через Северный полюс: Аляска — Шпицберген, за который он получил мировой переходящий приз, выдающийся «за исключительные полеты».
Самолет не найден, летчики тоже… Конечно Эйельсон не новичок, который снег видел только на картинках. Имея запас продовольствия, полярное оборудование и наконец свой громадный опыт, летчики могли добраться до какого-нибудь селения чукчей и там пережидать пургу и полярную ночь. Теоретически это вполне возможно, но… мы думаем о той пурге, которая бушевала в течение многих суток, заносила наши самолеты и дом громадными сугробами и даже вблизи нашей базы не давала возможности передвигаться…
Мы заговорили все разом. Проклятые условия… В то время как люди, может быть, погибают, мы должны сидеть здесь, кормить собак и ждать, пока кончится этот, извините за выражение…
Мы должны немедленно вылететь, но как это сделать, когда там еще ночь, у нас нет приборов для ночного полета и когда наши машины висят на волоске: вот-вот их окончательно изуродует. Сможем ли мы вообще на них когда-нибудь оторваться от земли?
Как сможем мы забросить бензин на Колючинскую губу для Чухновского, когда собаки берут не больше 100 кило, а наши бочки не менее 350 каждая?
В этот вечер мы долго не ложились спать, обсуждая подробности событий и взвешивая всевозможные варианты нашей работы.
Уже поздно ночью, когда мы все разошлись по своим, комнатам и Эренпрейс, повернувшись к стене, спал, я все лежал с открытыми глазами и ясно видел перед собой картину: разбитый самолет… двое людей, увязая по колено в снегу, идут прочь… кругом, куда ни кинешь взгляд, белая пустыня… то там, то сям, как маленькие смерчи, кружатся снежинки… начинается пурга…
Дни стали значительно длиннее, и сильно потеплело. Сильным ветром очистило бухту ото льда. Сейчас она спокойная, и ясная, как свежепротертое стекло. Появилась масса уток, гагар и других не знакомых мне водяных птиц. С громкими криками они тучами носятся над водой и садятся на берег и скалы.
Северная часть бухты, как бассейн в зоологическом саду, кишмя-кишит нерпами.
Большую часть времени мы проводим у самолетов. С большими трудностями нам удалось их окончательно откопать и поставить на уровень снежного покрова. Много времени ушло на скалывание льда, выгребание снега из кабинки и оттаивание паяльными лампами тех мест, до которых никак нельзя было добраться, но которые были битком забиты снегом и льдом.
Вторая машина находится в крайне жалком состоянии. Мы не высказываем друг другу своих опасения, но, смотря на нее, каждый из нас проникается далеко не оптимистическим настроением.
Ее крылья, элероны, фюзеляж и даже внутренность кабины покрыты белым налетом карозии.
Карозия — это окисление дюралюминия от действия соленой воды. Хотя наши машины стояли примерно шагах и трехстах от бухты, но очевидно соленые брызги от разбивавшихся волн все же в виде мелкой пыли долетали до них и садились на их корпус.
Карозия настолько сильно разъедает дюралий, что в течение весьма короткого времени крепкий металл размягчается, быстро разрушается и в конечном итоге превращается в решета. Если вы тронете пальцем то место, которое покрыто белым налетом, то почувствуете, как под вашим давлением металл сейчас же погнулся: если сделаете усилие чуть больше, то палец может свободно пройти насквозь. Единственно, что может относительно предохранить от карозии — это лаковая краска.
Может быть, мой самолет был лучше покрашен или возможно, что он стоял в более выгодном положения — мотором к бухте, а не хвостом, как второй, — во всяком случае он пострадал не так сильно.