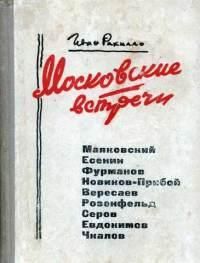Рана Пушкина была слишком опасна для продолжения дела — и оно окончилось. Сделав выстрел, он упал и два раза терял сознание. После нескольких минут забытья, он наконец пришел в себя и уже более не лишался чувств. Положенный в тряские сани, он, на расстоянии полуверсты самой скверной дороги, сильно страдал, но не жаловался. Барон Геккерен, поддерживаемый мною, дошел до своих саней, где дождался, пока не тронулись сани его противника, и я мог сопутствовать ему до Петербурга. В продолжение всего дела, — заключает свое письмо д'Аршиак, — обе стороны были спокойны, хладнокровны, исполнены достоинства».
Вересаев вложил письмо в папку и достал другую бумажку.
— Нам известно, что Пушкин был ранен в правую сторону живота. Пуля, раздробив кость верхней части ноги у соединения с тазом, глубоко вошла в живот и там остановилась. Прошу, друзья, обратить ваше внимание на одну любопытную деталь. В письме Жуковского к отцу Пушкина о дуэли написано так: «Геккерен упал, но его сбила с ног только сильная контузия. Пуля пробила мясистые части правой руки, коею он закрыл себе грудь, и, будучи тем ослаблена, попала в пуговицу, которою панталоны держались на подтяжке против лодыжки. Эта пуговица спасла Геккерена».
А в оставленных записках А. Щербинина мы читаем следующее: «На коленях, полулежа, Пушкин целился в Дантеса в продолжение двух минут и выстрелил так метко, что если бы Дантес не держал руку поднятой, то непременно был бы убит, пуля пробила руку и ударилась в одну из металлических пуговиц мундира, причём всё же продавила Дантесу два ребра».
Версия о том, что жизнь Дантеса была спасена благодаря пуговице, не вызывала в течение почти столетия ни у кого никаких сомнений. Однако в двух этих документах мы находим серьезное разночтение: в одном утверждается, что пуля будто бы попала в пуговицу мундира, а в другом — в пуговицу, которою панталоны держались. Разница существенная!..
Тот осенний вечер в старом малеевском доме не забудется никогда. Перед глазами возникает Вересаев в синей толстовке. Он возбуждённо кружится по комнате и то достаёт из папки новый документ, то вновь с величайшей аккуратностью укладывает его обратно.
Он подробно рассказал нам о ране Пушкина, докторе Арендте и состоянии медицины той эпохи.
— Как известно из протокола дуэли, Дантес выстрелил в Пушкина с расстояния одиннадцати шагов. «Кажется, у меня раздроблено бедро!» — падая, крикнул Пушкин.
По свидетельству врача В. И. Даля, принимавшего участие во вскрытии тела поэта, «рана была тяжёлая и сильно кровоточила… Дома раненый поэт сам разделся и надел чистое бельё. Врача нашли не сразу. Сначала приехал второпях захваченный акушер, и только позже прибыл хирург».
Собравшись у постели мучительно страдавшего поэта, хирурги нерешительно прощупывали зондами рану, увеличивая и без того невыносимые страдания раненого. На хирургическое вмешательство по своим знаниям Арендт не мог решиться. Чтобы остановить кровь, он сначала сделал перевязку. А когда появились воспалительные процессы, стал давать больному каломель, опий, лавровишневые капли, предложил ставить ему компрессы на живот и делать промывание. Эти меры не могли помочь Пушкину.
Новиков-Прибой задал Вересаеву вопрос:
— А могли бы врачи спасти Пушкина в наши дни?
— Безусловно, — убеждённо ответил Викентий Викентьевич, — при нынешнем состоянии и оснащении медицины его мог бы спасти наш рядовой хирург. Арендт и все другие врачи предприняли всё, что от них зависело, но их знаний было недостаточно.
Однако мы отвлеклись от нашей основной темы, от пуговицы, спасшей Дантеса…
Сняв пенсне, Викентий Викентьевич с загадочным выражением сощуренных глаз оглядел наше притихшее общество.
— Что же это за пуговица такая?.. Дело в том, что один инженер, по-видимому специалист по оружию, прислал мне недавно с Урала письмо. Он выражает своё недоумение по поводу пули, будто бы отлетевшей от пуговицы Дантеса и спасшей ему жизнь. «Пуговица привлекла моё внимание, — пишет автор письма, — и я стал задумываться над этим вопросом. Что-то странное и непонятное было в этой пуговице.
Потом, — сообщает он, — я сходил в музей и достал там пистолет пушкинских времен. Устроив манекен и надев на него старый френч с металлической пуговицей, я зарядил пистолет круглой пулей и с одиннадцати шагов, как это было на дуэли у Пушкина, выстрелил в пуговицу. Дорогой товарищ Вересаев, — восклицает инженер, — пуля не только не отлетела от пуговицы, а вместе с этой самой пуговицей насквозь прошла через манекен. Вот какая пробойная сила была в той пуле!»
Автор задает законный вопрос: как же в течение почти ста лет этот факт не привлек внимания учёных-пушкинистов? — и выдвигает смелое предположение: а не был ли надет у Дантеса под мундир панцирь или кольчуга?
Викентий Викентьевич молча развёл руками.
— Эта гипотеза инженера теперь уже не давала мне покоя. «Мог ли дворянин, — думал я, — пойти на такой низкий поступок?» Пожалуй, нет. Но вот сегодня меня осенила неожиданная догадка: не посылал ли Геккерен в Архангельск человека со специальным заданием — заказать там для Дантеса кольчугу или панцирь? И не поэтому ли он был прописан на какой-то там Оружейной улице? Ведь это, по-видимому, неспроста — на Оружейной…
И Вересаев, нервно поглаживая ладонью лысеющую голову, снова стал шагать по комнате: его огромная чёрная тень тревожно заметалась по потолку и стенам, невольно вызывая в сознании картину злодейского убийства Пушкина.
Характер человека иной раз откроется в одном поступке, фразе, движении души.
Так неожиданно засверкал, заискрился перед изумлёнными взорами друзей Викентий Викентьевич Вересаев в тот вечер воспоминаний о Пушкине и знакомства с архангельским гостем. Оказывается, за спокойной и не очень выразительной внешностью старого врача скрывался человек устремлённый, порывистый, натура, полная взволнованной одержимости и молодой влюблённости в свою профессию литератора, ученого, исследователя.
Конечно, факты, приведённые Вересаевым, были не новы, они хорошо известны по воспоминаниям современников и друзей Пушкина, но всем нам был преподан великолепный урок — как, с какой строгой взыскательностью и настойчивостью учёный, художник должен вести поиск, изучать события истории.
Собирая буквально по слову, но крупинке все, даже самые малозначительные сведения, рисующие Пушкина в жизни, рассказывающие о его привычках, встречах, переживаниях и настроениях, о радостях и невзгодах, сопровождавших поэта, Вересаев говорил:
— Многие сведения, приводимые в воспоминаниях современников, конечно, не всегда достоверны и носят признаки слухов и легенд. Но ведь живой человек характерен не только подлинными событиями своей жизни, — он не менее характерен и теми легендами, которые вокруг него создаются.