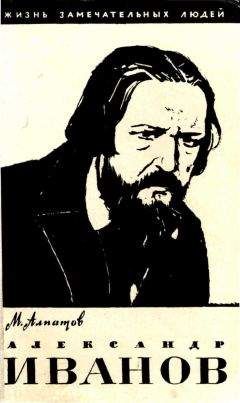Как часто он теперь вспоминает обращенные к нему стихи Огарева. Их привезла Шелгунова;
Закован в железы с тяжелою цепью,
Идешь ты, изгнанник, в холодную даль,
Идешь бесконечною, снежною степью,
Идешь в рудокопы, на труд и печаль.
Иди без унынья, иди без роптанья,
Твой подвиг прекрасен, и святы страданья.
Его «Сибирские очерки» наполняются слезами и кровью. И его слезами и его кровью, но в них и страстная вера в грядущую революцию, во всенародное восстание. Искра таится в стонах истязуемых невинных людей, она в гневном протесте беглого, уходящего в ледяное безмолвие на верную гибель, но гибель под свободным небом воли и даже в вызове самоубийства.
К нему в подземелье шахт дошел бодрый привет друга и соратника — Петра Лаврова;
С Балтийского моря на Дальний Восток
Летит буйный ветер свободно;
Несет он на крыльях пустынный песок —
Несет вздох тоски всенародной…
Несет он привет от печальных друзей
Далекому, милому другу…
Несет он зародыши грозных идей
От Запада, Севера, Юга…
И шепчет: «Я слышал, в полях, городах
Уж ходит тревожное слово;
Бледнеют безумцы в роскошных дворцах…
Грядущее дело готово.
Над русской землею краснеет заря;
Заблещет светило свободы…
И скоро уж опросят отчет у царя
Покорные прежде народы…»
Нет, его не сломили страдания. Он слышит живые вести из далекого мира. И он шлет в этот мир свое слово, свои надежды. Он страдает оттого, что в 1863 году не произошло, как он ожидал, всеобщего восстания и что начался спад революционной волны. Его злит, что гневные крики бунтующего народа заглушает либеральное сюсюканье по поводу прожектов о «совещательной земской думе», новом «положении» о земских организациях.
Он не верит в них, не верит в реформы, пожалованные свыше. Он зовет к борьбе.
Отсюда, из далекой Сибири, Михайлов может бороться только словом. Его стихи, его статьи, очерки находят дорогу в столицу. Под псевдонимами стараниями друзей они появляются в печати.
Сколько нужно было иметь сил, веры, мужества, чтобы бороться с отчаянием. И не всегда, не каждый раз он выходил победителем.
Оно иногда прорывалось. Но это не было отчаяние человека, обреченного на смерть каторжным режимом. И скорбел он тоже не о себе.
Михайлов вновь и вновь обращался к молодому поколению. Он ждет от него не слов, а дел. Дел! И, не видя этих дел, клеймит поколение. Это стон сердца, сдержанный, страстный, и даже в стоне слышится надежда:
Иль все ты вымерло, о молодое племя?
Иль немочь старчества осилила тебя?
Иль на священный бой не призывает время?
Иль в жалком рабстве сгнить — ты бережешь себя?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Иль в жертвах и крови геройского народа,
В его святой борьбе понять вы не могли,
Что из-за вечных прав ведет тот бой свобода,
А не минутный спор из-за клочка земли?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Иль тех, кто миру нес святое вдохновенье,
Ведет одна корысть и мелочный расчет?
Кто с песнью шел на смерть и возбуждал движенье,
В мишурное ярмо покорно сам идет?
И за стеной тюрьмы — тюремное молчанье,
И за стеной тюрьмы — тюремный звон цепей;
Ни мысли движущей, ни смелого воззванья,
Ни дела бодрого в родной стране моей!
Так часто думаю, в своей глуши тоскуя,
И жду, настанет ли святой, великий миг,
Когда ты, молодость, восстанешь, негодуя,
И бросишь мне в лицо названье: клеветник!
* * *
Кончался август 1864 года. Больной Михаил Илларионович лежит на узкой жесткой койке лазаретного отделения Кадаинского рудника. Лазарет неусыпно охраняется военным караулом. У Михайлова что-то с почками и очень болит сердце. Лекарь не уверен, но ему кажется, что это начало брайтовой болезни. Она здесь не гостья, а хозяйка. Михаил Илларионович чувствует, что это так. С такой болезнью в больнице, в мучениях он еще сможет протянуть полгода, ну, год, но никак не больше.
А если уйти опять в острог, на рудники, хотя уже по зачету каторжника третьей категории вышли его сроки пребывания на работах, тогда через месяц-два болезнь сделает свое черное дело.
Стоит ли тянуть? За этот год жизни он не успеет окончить начатого романа «Вместе» — романа о себе, о Людмиле, о новых людях, их любви, дружбе, революционной борьбе.
Нет, он не хочет умирать. Лекарь мог и ошибиться.
Михайлов, обессиленный больными мыслями, засыпает.
Его разбудил шум отодвигаемой кровати, потом возглас радости. Он не успел еще совсем проснуться и понять, кто это его обнимает, целует.
Господи, наваждение! Николай Гаврилович Чернышевский!
Нет, конечно, он бесконечно счастлив видеть друга, учителя, и какие теперь могут быть мысли о смерти! Но он и радуется и плачет — Чернышевский на каторге! Значит, погибло все. Значит, кровавый «освободитель» и на сей раз торжествует победу.
У Чернышевского признаки цинги и что-то очень плохо с сердцем.
Первый порыв прошел. Чернышевский расстроен. Михайлов не может понять чем.
Николай Гаврилович, улучив момент, говорит Михайлову, что на людях, на глазах у стражи, смотрителей он должен сторониться Михайлова, чтобы не повредить ему, выходящему на поселение. Михайлов бурно протестует. Он готов разделить с Чернышевским его участь.
Но Николай Гаврилович знает, что для него уготовлен особый режим. И он не хочет быть причиной несчастий друга. Тот вынес достаточно. Теперь речь идет о его жизни. А его жизнь еще пригодится новому поколению борцов.
Они беседуют только с глазу на глаз. Николай Гаврилович рассказывает о «Земле и воле», о «Казанском заговоре студентов». Он привез «Что делать?», и Михайлов тайком зачитывается романом. Он потрясен. Лопухов, Кирсанов, Вера Павловна… Роман напоминает ему о счастливых днях, о соратниках. Ведь Вера Павловна — это и Ольга Сократовна и Марья Александровна Бокова, сестра Обручева, да в ней и от Людмилы, Людмилы Шелгуновой много, очень много взято.
И этот роман написан в крепости?
Да, и в крепости Николай Гаврилович остался непоколебим в своих социалистических идеалах, не пошатнулся, уверенный в грядущей победе.
Михайлова точно подменили. Болезнь отошла в сторону. Он готов работать и работать. Чернышевский подсказывает тему.
Пусть это будут научно-популярные очерки о первобытных людях «За миллионы лет…», «За пределами истории».