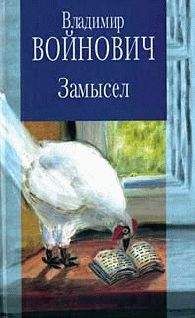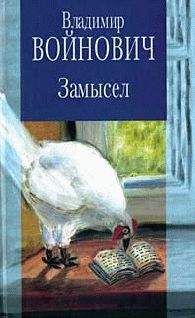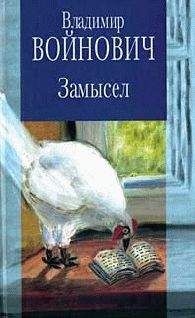Она говорит Ире:
– Пусть уезжает Володя. Он все это сделал, пусть сам и едет.
Ира спрашивает:
– А Оля пусть останется без отца?
Анна Михайловна не отвечает. Она сама понимает, что ее предложение принять нельзя. Но уехать она тоже не может.
Ира говорит мне:
– Нет, мы сейчас не поедем. Я не могу их бросить сейчас. Давай подождем до Нового года.
– А что случится до Нового года?
– Ну, может быть, они свыкнутся с мыслью, что им придется остаться. Или, в конце концов, дойдут до мысли, что можно уехать.
Я – Данилу Михайловичу:
– Если не хотите ехать в Германию, езжайте в Израиль. По крайней мере, мы будем достижимы друг для друга. Там вы, если вам очень хочется, вступите в израильскую компартию.
– Вы хотите, чтобы я поехал в эту фашистскую страну? Которая нагло попирает права палестинцев?
Есть прекрасный еврейский анекдот. Приходит к Рабиновичу сват: «Рабинович, почему бы вам не отдать вашу Риву замуж за графа Потоцкого?» Рабинович: «Что? За этого гоя? Да как вы смеете такое мне предлагать?» Сват: «Рабинович, подумайте, это же граф Потоцкий, самый богатый человек на земле. Ваша Рива всю жизнь будет жить в хоромах, ходить в шелках, ездить в каретах и как сыр в масле кататься». Рабинович упирается: «Нет, пусть этот Потоцкий будет хоть трижды богат, но Рива за гоя не пойдет никогда». Сват употребляет все свое красноречие и наконец, через несколько часов, вырывает согласие. Выскакивает на улицу взъерошенный, взмокший от пота и отдувается: «Ууфф! Теперь осталось уговорить только графа Потоцкого».
Преуспев в своих уговорах не более, чем этот анекдотический сват, я иду встречаться с Идашкиным и говорю ему:
– До Олимпиады уехать никак не могу. Уеду к Новому году.
Вижу на лице его признаки очень большого разочарования. Он уже почти выполнил свою миссию, и вот на последнем пункте осечка. Но я говорю:
– Ты скажи этим, кто тебя послал, что я на время Олимпийских игр из Москвы куда-нибудь уберусь. Я буду эти игры бойкотировать, как американцы.
Он кисло улыбается моей неуместной шутке.
На другой день Санин приносит сообщение. Некто сказал Идашкину, что это, конечно, не то, чего мы от него (от меня) ожидали, но ладно, мол, до конца года потерпим.
А потерпят ли в самом деле, а не решат ли выйти из положения более кардинальным способом, это еще не известно.
Я выхожу на улицу. Встречаю критика Михаила Семеновича Гуса. Того самого, который пытался меня удушить еще при моем (литературном) рождении, а потом заливал водой. Это ему принадлежит крылатая фраза: «Войнович придерживается чуждой нам поэтики изображения жизни как она есть».
Раньше я проходил мимо него молча, а теперь стал здороваться. Отчасти из-за его внука, детского врача. Он приходил к нам смотреть Олю и брал почитать «Чонкина». И вот я встречаю дедушку Гуса, здороваюсь, он останавливается и говорит, покачивая в такт своим словам головой:
– А мне вчера исполнилось восемьдесят лет.
– Поздравляю, – говорю я.
Он вздыхает.
– Да с чем уж там поздравлять?
– Ну хотя бы с тем, что вы до этого возраста дожили!
– Да, – кивает он. – Дожил. И много чего сделал. Много плохого сделал. Вот и вас, молодого, травил.
– Ну это, – решил я его утешить, – неважно.
– Нет, важно, – сказал он и вдруг заплакал. И, махнув рукой, отошел.
Кажется, он чуть ли не единственный из всех встреченных мною людей подобного рода, кого совесть хоть в конце жизни угрызла.
Если бы я был Высшей Инстанцией, я бы искренние угрызения совести считал достаточным основанием для прощения всех грехов.
"Вдова полковника» – это рассказ о рассказе, написанном на заре туманной юности, утерянном и приблизительно восстановленном. Здесь есть только Нюра. Ее возлюбленный не имеет еще ни четкого характера, ни облика, ни даже фамилии, но его появление предопределено. Сочинив эту историю, В.В. сразу понял, что нужен второй рассказ о том, кем на самом деле был и что должен был делать персонаж, произведенный Нюрой в летчики, в полковники и герои. Ясно, что он не должен быть ни летчиком, ни полковником, ни героем.
А кем?
В.В. много раз пытался его описать, но получалась бесформенная неживая фигура. Пять лет В.В, писал и печатал что-то другое и все думал, думал, как вдруг возникла перед ним картина, затерянная на задворках памяти: Польша, Силезия, обнесенный красным кирпичным забором военный городок и плац для строевых занятий между казармами и столовой. Вдоль плаца по булыжной мостовой тяжелый немецкий битюг тянет телегу, а в ней – никого. А где же возница? А вон он, попал каким-то образом под телегу, слава Богу, что между колес. Зацепился ногой за вожжу. Лошадь идет, тянет телегу, тянет запутавшегося солдата, он трется мордой о булыжник, не проявляя ни малейшей попытки изменить ситуацию. И другая картина налезла на первую. То же место, та же лошадь, та же телега, но теперь солдат наверху, на облучке. Голова обмотана грязным бинтом. Бинт размотался, выбился из-под пилотки, развевается на ветру. Слегка подбоченясь и откинувши корпус назад, солдат потряхивает вожжами, лошадь неохотно трусит мелкой рысью.
– Ого-го! – покрикивает на нее солдат, и во всем облике его есть что-то нелепое, комическое и трогательное.
– Кто это? – спросил В.В. стоявшего рядом с ним сослуживца.
– Ты разве не знаешь? – удивился сослуживец. – Это же Чонкин!
Предварительные исследования завершены, и операция назначена на 8 июня. Как ни странно, ожидаю этого события с полным равнодушием. Которое, возможно, достигается медикаментозно – ведь в меня все время что-то вливают. Правда, прошлую ночь меня вдруг обуял ужасный страх. Среди ночи я проснулся и понял, что умираю. Нет, у меня не было ни боли, ни затруднений с дыханием, а просто чувство, что умираю, и все. Сначала я боролся со страхом сам, потом вызвал швестер Луизу и сказал ей: «Вы знаете, мне кажется, я умираю». Она посмотрела на меня, пощупала пульс и сказала, что вообще не похоже, но все бывает. Сделала мне укол и пошла за дежурным врачом, но, пока она за ним ходила, я заснул, а на рассвете проснулся совершенно спокойный и стал переписывать завещание. После чего приступил к смиренному ожиданию своей участи. Теперь страха нет совершенно. Об обязательности летального исхода не думаю, но возможности его тоже не исключаю. Не считая себя столь уникальным творением природы, ради которого высшие силы специально будут вникать в ход намечаемого хирургического вмешательства.
Тем более, что время, когда я не мог представить существующий мир без своего присутствия, осталось в далеком прошлом, о котором в моих бумагах сохранилась такая запись.