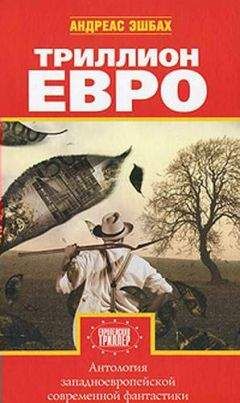Не легкое дело трястись день и ночь в громоздкой колымаге, в особенности когда сидишь не внутри, а «вне почтового экипажа», как сказано в проездном билете. Ноги затекают, бока болят от толчков. Холодный ветер продувает насквозь, не обращая внимания на кожаную занавесочку, которой полагается ограждать от стихий пассажиров, сидящих на наружных местах.
«Одно неудобство наружного места: сидеть тесно, — писал Бородин матери с дороги. — Если бы мой сосед был бы немного потолще, то не знаю, как бы мы уместились на такой узенькой скамеечке. Другое неудобство заключается в том, что возле, за тоненькой перегородкой, сидит кондуктор, который немилосердно трубит над самым ухом и вдобавок трубит крайне фальшиво. Ночь была лунная, и я смотрел с удовольствием, как мы проезжали мимо триумфальных ворот по Петергофской дороге; проехали Стрельну, Петергоф. Кондуктор в скором времени угомонился и не трубил больше… Мне не спалось, я глядел чрез маленькое овальное окошечко, сделанное в кожаной занавеске, на пустые поля, мелкие сосны и березняк, слушал гиканье ямщика, топот лошадей и мелодическое сопение моего соседа, спавшего крепким сном».
С каждым часом все дальше уходил назад родной дом. Впереди была новая глава жизни; чужие края, чужие люди.
Почтовая карета должна была доставить Бородина до Таурогена, на прусской границе. А дальше путь лежал через всю Германию — в герцогство Баденское, в маленький городок Гейдельберг.
Это была вторая его поездка за границу. Первый раз он отправился туда на Международный конгресс офтальмологов в качестве ассистента профессора-окулиста И. И. Кабата. Быстро пролетели тогда несколько недель в. Париже и Брюсселе. Бородин и там интересовался химией больше, чем медициной. Ему не удалось повидаться с известным химиком Бертело, с которым он хотел поговорить, но он успел осмотреть его лабораторию.
Чего же ради отправился Бородин теперь в чужие края?
Гейдельберг был знаменит своим старинным университетом, где преподавали прославленные на весь мир ученые Бунзен и Кирхгоф. Из разных стран съезжались туда молодые химики, чтобы послушать лекции этих ученых, поработать под их руководством.
Но Бородину незачем было искать себе новых руководителей. Ведь имя его наставника Николая Николаевича Зинина звучало не менее громко, чем имена самых знаменитых иноземных ученых. Были в Петербурге и другие замечательные химики. Достаточно назвать хотя бы такого ученого, как Александр Абрамович Воскресенский, профессор Петербургского педагогического института. Он уже вырастил немало талантливых химиков. Его учениками были Менделеев, Бекетов, Меншуткин.
Чего же не хватало в Петербурге молодым ученым?
Прежде всего не хватало средств и времени для научной работы, а заграничная командировка давала им и то и другое.
К тому же в Петербурге тогда еще мало было хорошо оборудованных лабораторий и нелегко было иной раз достать самые необходимые реактивы и приборы.
Россия была страной передовой химии и отсталой химической промышленности.
Мудрено ли, что молодые русские химики радовались возможности поработать в хорошо оборудованной лаборатории, даже если она была за тридевять земель от их родного города?
Правда, можно было надеяться, что и в России в скором времени станет легче заниматься химией. Бородин уезжал в заграничную командировку с надеждой на то, что к его возвращению будет уже построен новый естественно-исторический институт. Перед его отъездом Зинин поручил ему купить в Германии кое-какие приборы для этого института, посетить лучшие лаборатории, побывать на химических заводах и на рудниках.
Давая этот наказ доктору медицины Бородину, Зинин думал не только об интересах врачебной науки. Он хотел, чтобы его ученик и преемник посмотрел за границей все, что может быть полезно для русской химии и русской промышленности…
Почтовая карета продолжала катиться по дорогам, то с горы, то в гору, переправляться на паромах через реки, останавливаться на станционных дворах, где ямщики запрягали свежих лошадей, а пассажиры раскрывали свои походные погребцы и подкреплялись закуской и горячим чаем.
На одной из станций — в Дерпте — появился новый пассажир. Сначала Бородин принял его за дерптского студиозуса, но он оказался русским.
«Это был, — писал Бородин, — некто Борщов, бывший товарищ Коли Щиглева по лицею; он ехал за границу с целью серьезно заниматься естественными науками. Борщов, с которым я потом познакомился короче, оказался очень симпатичным юношей, умным, толковым и многосторонне образованным [11]. Он уже специально занимался ботаникою (напечатал несколько работ) и геогнозиею, провел два года в киргизских степях с Северцевым около Аральского моря и т. д. Кроме того, он оказался очень хорошим музыкантом, с «н а ш и м» направлением в музыке. Я очень обрадовался этой встрече».
Когда встречаются два молодых человека, увлекающихся музыкой, поэзией, живописью, у них чуть ли не с первых же слов начинаются расспросы: «А кого из композиторов, поэтов, художников вы больше всего любите?» Без этого и знакомство не знакомство. А знакомство быстро переходит в дружбу, если вкусы и направления совпадают.
Для Бородина таким решающим вопросом было: любит ли его новый знакомый Глинку? Это он и считал «нашим» направлением в музыке. И он рад был услышать, что Борщов — рьяный поклонник Глинки и знает оперы его наизусть от доски до доски.
Глинка, так же как Пушкин, как Белинский, был знаменем передовой молодежи. Недаром его не любили реакционеры.
Писатель пятидесятых-шестидесятых годов П. М. Ковалевский рассказывает, что великий князь Михаил Павлович — грубый и невежественный солдафон — наказывал офицеров за провинности тем, что посылал их не на гауптвахту, а в Большой театр послушать «Руслана и Людмилу».
А для передовой молодежи «Руслан» был символом веры.
В Кенигсберге путники распростились, наконец, с надоевшей им почтовой каретой, от которой у них давно уже болели бока. Дальше они поехали по железной дороге.
В Берлин прибыли рано утром. Бородин с трудом дождался открытия магазинов. В этот день у Гофмана и Эбергардта он был одним из первых покупателей.
Он приобрел для лаборатории академии воздушный насос и сразу же распорядился отправить его Зинину.
Вечером Бородин и Борщов были уже снова в пути. Когда на следующее утро пассажиры, ехавшие в поезде, проснулись и выглянули в окна вагонов, они увидели, что пейзаж переменился. За окнами вместо однообразной равнины поднимались невысокие округлые горы, покрытые виноградниками. Кое-где на вершинах гор виднелись одетые плющом развалины замков. Внизу в долинах алели черепичные крыши и остроконечные башни маленьких, словно игрушечных, городков. В раскрытые окна врывался ароматный, совсем летний ветер. А ведь когда Бородин уезжал из Петербурга, уже давал себя знать мороз.