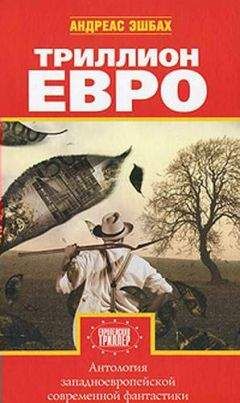Один из этих маленьких городков оказался Гейдельбергом. Приветливо встретили приезжих чистенькие, только что вымытые улицы. Поражало, что все ходят в летних пальто и что ограды увиты цветущими розами, хотя на дворе уже стоял ноябрь.
«Остановившись в Badischer Hof[12], — писал Бородин, — мы как раз попали в отель, где обедают все наши русские, живущие в Гейдельберге. За табльдотом я увиделся с Менделеевым, Сеченовым и многими другими. После обеда мы отправились все к Менделееву; у него очень миленькая лаборатория, чистенькая и даже снабженная газом».
Менделеев пробовал сначала работать у Бунзена. «Папаша» Бунзен, как его все называли, был очень мил и любезен, но работать в его лаборатории оказалось совершенно невозможно.
— Известный вам Кариус, — рассказывал Менделеев друзьям-химикам, — так вонял своими сернистыми продуктами, что у меня голова и грудь заболели. Мне пришлось стоять около него. Потом я увидел, что ничего-то мне необходимого нет в этой лаборатории. Даже весы и те куда как плоховаты, а главное — нет чистого, покойного уголка, где можно было бы заниматься такими деликатными опытами, как капиллярные… Все интересы этой лаборатории, увы, самые школьные: масса работающих — начинающие…
Вот Менделеев и решил устроить все у себя дома. Одну комнату он превратил в лабораторию, в другой делал наблюдения.
Менделеев с гордостью показывал приборы, которые он купил в Париже. Он там совсем разорился, потратил больше тысячи рублей из тех денег, которые были ему отпущены на командировку. Но зато приобрел много хорошего. А в Гейдельберге ему почти ничего достать не удалось.
У себя дома он мог работать когда угодно и как угодно, ни от кого не завися. И в самом деле, не Менделееву было становиться за один лабораторный стол с учениками Бунзена, начинающими химиками.
Бородин и сам предполагал вначале поработать у Бунзена. Но разговор с Менделеевым заставил его призадуматься.
В тот же день вечером Бородин и Борщов решили, по русскому обычаю, отправиться в баню, чтобы помыться с дороги. Но так как они были не в России, а в Германии, то пошли они не в баню, а в ванное заведение. Заведение это удивило их своей универсальностью: здесь можно было и принять ванну, и купить туалетные принадлежности, и — что самое странное — тут же продавались ноты и музыкальные инструменты. На ловца, как говорят, и зверь бежит.
Пока в ванны наливалась вода, страстные любители музыки уселись, с разрешения хозяйки, за фортепьяно и сыграли в четыре руки наизусть увертюру из «Ивана Сусанина».
Перед тем как уйти домой, Бородин решился спросить хозяйку, не даст ли она ему на прокат фисгармонию. Хозяйка с удовольствием согласилась и назначила такую дешевую цену, что Бородин только ахнул: «Дешевле пареной репы!»
День этот был на редкость удачным: в чужом краю Бородин сразу же нашел земляков, да притом еще товарищей по науке, поговорил с Менделеевым о химических делах, поиграл в четыре руки с Борщовым и в довершение всего обзавелся музыкальным инструментом.
Так началась его заграничная жизнь.
Больше всего места в этой жизни занимала работа. Но сложилась она не так, как он думал, уезжая из Петербурга.
В лаборатории Гейдельбергского университета было так много народу, что у весов и печей выстраивались очереди. Приборы по большей части были недостаточно хороши для серьезной научной работы, требующей точности. Да к тому же еще в университет те можно было работать только до пяти часов вечера. По субботам и воскресеньям занятий вовсе не было. А Бородин приехал сюда совсем не для того, чтобы отдыхать. Он и прежде не любил сидеть без дела, а теперь он только о том и думал, как бы с головой уйти в работу.
Кончилось тем, что он устроился в другой лаборатории, у молодого приват-доцента Эрленмейера. Там ему пришлось платить двойную цену, но зато у него была отдельная комната, в которой он мог работать совершенно независимо, в любое время дня и ночи. Из лаборатории его можно было выгнать только тогда, когда шла предпраздничная уборка, когда по комнатам принимались гулять мокрые тряпки, швабры и щетки.
Над чем же работал с таким увлечением Бородин?
В своем отчете о заграничной поездке он пишет, что решил «попробовать найти рациональный способ получения целого ряда новых кислот».
Для этого он наметил такой план: взять какую-нибудь существующую органическую кислоту, заместить в ней водород хлором или бромом, а потом хлор или бром, в свою очередь, заместить «углеводородным радикалом», то есть группой связанных между собой атомов углерода и водорода.
Таким способом он надеялся получить из известных кислот новые, неизвестные.
Осуществляя этот план, Бородин пробовал действовать парами брома на серебряные соли валериановой и масляной кислот.
Работать с бромом нелегко. Его красноватые, тяжелые пары вызывают кашель, вредно действуют на легкие. Приходится вести опыт под тягой, но и тяга не всегда спасает химика от вдыхания ядовитых паров.
Эта вредная для здоровья работа была выполнена Бородиным не напрасно: ему удалось получить из масляной и валериановой кислот новые интересные соединения.
Сообщение об этой работе появилось скоро в бюллетене Парижского химического общества.
Но Бородин не сразу разобрался в природе соединений, которые оказались у него в руках. В те времена еще не были известны вещества, которые получаются из органических кислот при замещении водорода бромом и хлором.
Через много лет, рассказывая о Бородине в статье для энциклопедического словаря, его ученик М. Ю. Гольдштейн написал: «Как только Бородин начал разбираться в этом вопросе, появилась подробная работа Шютценбергера о подобных же соединениях хлорноватистой кислоты, вследствие чего Бородин оставил свою работу, предоставив дальнейшее исследование этого вопроса Шютценбергеру».
Так с тех пор и стали считать эти соединения «ангидридами Шютценбергера», хотя их правильнее было бы называть ангидридами Бородина.
Но это было только одно из открытий, сделанных Бородиным на пути к неизвестным кислотам.
Чтобы найти способ вводить в молекулу новые группы атомов, он взял себе на помощь реактив с необыкновенными свойствами — цинкэтил.
Несведущему человеку цинкэтил показался бы волшебным элексиром алхимиков. Если его вылить на стол, он воспламеняется и горит ярким пламенем, оставляя на столе налет окиси цинка.
Получали его сложным способом: нагревая исходный материал двенадцать часов подряд в запаянной стеклянной трубке. Чтобы трубку можно было нагревать безопасно, ее приходилось помещать в железный футляр: если ее разрывало, мелкие, как песок, осколки не разлетались по комнате, а оставались в футляру.