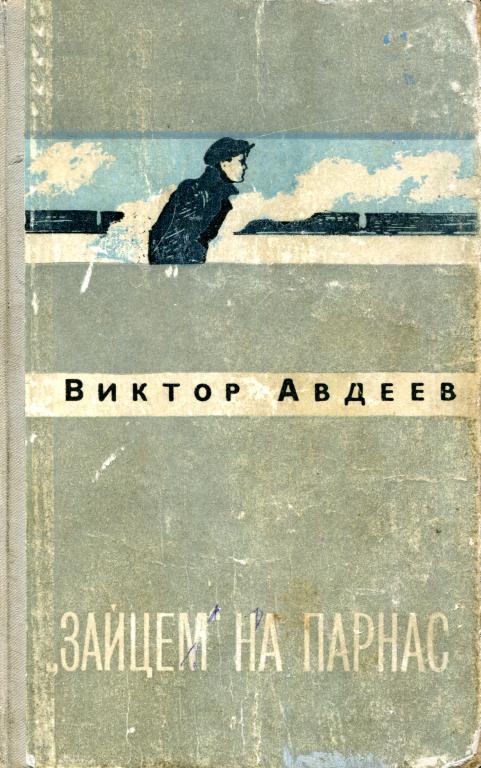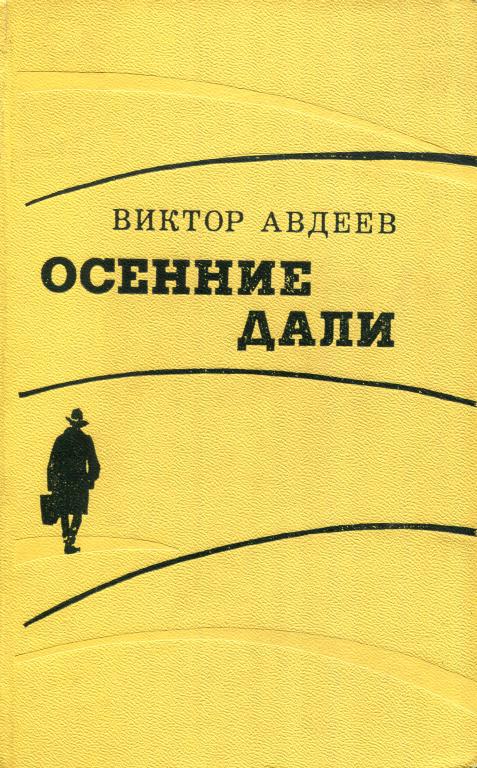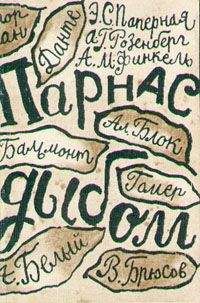в избе перед иконкой: может, еще человеком стану? Власть-то теперешняя, она во всех людей видит. С работой полегчало, глядишь, хоть кирпичи на стройке возьмут носить! Чего только не перетерпела я за четыре года, как муж бросил! И обманывали меня сколь разов мужчины, и спаивали, и трое босяков гурьбой насильничали. Сама не знаю, как образ свой не потеряла, не залилась бутылкой. Упасть трудно ль? Сама земля тянет. Вот удержаться на ноженьках, когда они с голодухи подгибаются… о-хо-хо-хо, хо-хо-хо-хо.
Мне ли она жаловалась или просто изливала наболевшее сердце? Узнал я, как шестнадцатилетней девчонкой выдали Анфису в Богучары за молодого слесаря, как он стал запивать, поколачивать ее, а затем бросил: как потом ее «пожалел» холостой сосед и через год выгнал: жена с детьми приехала из деревни; как мыкалась на поденках, пока не пустилась в поисках работы на «железку».
— Тут еще такие, как ты! — воскликнула Анфиса то ли досадливо, то ли с ласковой насмешкой. — Чего к бабам лезете? Ай девчонок не хватает?
— Чего ж вы тогда меня позвали? — спросил я.
— Дашке приглянулся. С ней я только на прошлой неделе в Новочеркасском обзнакомилась. Вдвоем-то способней ездить, небось сам знаешь, особливо нашей сестре. Она и послала Варфоломея… Варфоломей к ней еще днем прилип. Хорошо, что не отдал тебе: болела она, да, похоже, и сейчас неладно.
Спину мою обожгла дрожь отвращения: вот чего я избежал?! А женщина все проклинала «кобелей», отводила душу. Из-за терновника высунулся громадный багровый глаз: гребешок позднего месяца. Что-то зашуршало в кустарнике на склоне: может, еж вышел на охоту? Я, облокотясь, лежал возле сидевшей Анфисы и по-прежнему во тьме не различал ее лица. Вот как прошла у меня эта ночь? Что ж, скоротаем ее в беседе. Жалко, что записать ничего нельзя, ну да я запомню.
Из балки поднялся Варфоломей, за ним Дашка: мы совсем не слышали их шагов. Мятый картуз парня был победительно заломлен набекрень, пиджак он одним пальцем, вздев в петельку, держал за спиной, и загорелые толстые руки его дыбились мускулами.
— Натешились? — сказал он и повалился между мной и Анфисой. — Ты, Вихтор, теперь отлепись отседа, ступай вон к Дашке. С этой бабочкой я поближе обзнакомлюсь. — Он стал обнимать женщину, заламывать руки. — Айда в кустики.
Она оттолкнула парня:
— Передохни. Сгоришь.
— Ай я дед? Меня еще на пяток таких хватит.
Он затеял с Анфисой борьбу, придавил к земле. Она всячески изворачивалась, стараясь вырваться. Угрожающе предупредила:
— Укушу.
— Сучка, что ль?
— Хуже.
— Чего пристал к человеку? — сказал я Варфоломею. — Выбрал одну, и хватит с тебя.
Дашка устало, равнодушно причесывала красивые свалявшиеся волосы и не обращала внимания на своего любовника, на товарку. Не торопясь отряхнула подол юбки, выбрала репьяхи. Подмалеванное лицо ее, ясные несмущающиеся глаза хранили какое-то холодноватое высокомерие. Или мне так показалось в потемках?
— Гордилась бы, что с ней молодые парни играют, — вдруг проговорил Варфоломей и выпустил Анфису. Он повалился спиной на траву, раскинул короткие сильные ноги в разбитых сапогах, горласто, фальшиво запел:
Я мальчишка ой-ей-ей!
Насчет девок продувной.
Анфиса поднялась, незаметно показала подружке газетный сверток с остатками пеклеванного хлеба, вяленого чебака, огурцами. Дашка молча, словно бы лениво, последовала за ней, и женщины скрылись под выцветшим оранжевым месяцем, в черных зашуршавших кустах дубняка, терновника. Варфоломей проворно сел, проводил их заблестевшим взглядом.
— Слышь, Вихтор, — быстрым хвастливым шепотом заговорил он. — Покель ты тут разводил дела насчет пилки, рубки дров, я со своей шлюхой время зря не тратил, оборудовал ее на два фронта. Согласная, понял? Чтобы при ней состоял. «Котом». Теперь еще старую шкуру Анфиску взнуздать — и на двух кобылах поеду. Я у них кассой заведовать буду. Еще в ножки поклонятся. Что мне теперь каменоломня?
Варфоломей вслух стал развивать план, как больше «выжать из баб». Я поразился тому, до чего обстоятельно он все продумал.
Вернулись женщины.
Между нами воцарилось скучное молчание людей, чуждых друг другу по духу, помыслам. Время близилось к полуночи, из балки внятно потянуло гниющим корнем, прохладой, стало зябко. Огоньки в хатах давно погасли, поселок спал. Лишь светились стрелки на железнодорожных путях, но, казалось, и полустанок погрузился в дрему: ни обходчика, ни хотя бы отдаленного паровозного гудка.
— Ночевать в сено пойдем? — наскучив бездействием, спросил Варфоломей. — По той бок дороги приметил я днем стожки, отседа версты за две. Чего ждать: айда?
Он встал, потянулся крепким телом, хрустнув суставами. Я почувствовал на себе вызывающий взгляд Дашки: заигрывала она со мной по-прежнему или хотела поддеть, выместить какую-то скрытую обиду? Проговорила с наигранным смешком, словно испытывая:
— Чего это кучерявый наш совсем притих. Ай выдохся?
— Пятые сутки еду. Не высыпаюсь.
— Нынче отдохнешь. Пошли местечко в сене выберем. Зазябнешь — погрею, я молодая, у меня кровь-то против Анфиски горячее.
Скрытое недоброжелательство почудилось мне в ее словах. Согласись я сейчас пойти с Дашкой, не рассмеялась ли бы она мне в лицо?
Я не ответил. Варфоломей вдруг схватил Дашку за руку, потянул в степь, к стожкам. Заломалась она для виду, бросила на меня высокомерный, презрительный взгляд: он уже тащил ее, как собственность, и вскоре их голоса, смех растаяли за дорогой в темной степи.
— Останемся опять тут, — шепнула мне Анфиса, и я не узнал ее голоса. — Теперь им, идолам, не до нас. Чего бороду-то хоронишь? Если бы жизнь лишь так потчевала.
Она внезапно сжала мою голову, притянула к себе, и я увидел ее странно огромные глаза. «Ты не бойся, я чистая». Кровь ударила мне в голову, больше я уже не рассуждал.
В небе под легким облачком блестел костяной, облысевший месяц. Где-то за дорогой, в хлебах скрипел коростель. Ветви дуба над нами пропадали в полутьме, колючий степной татарник рядом казался кустом. Мы с Анфисой лежали на пальто, и она говорила новым для меня тихим грудным голосом, переливающимся, как ручеек по камушкам:
— Я ведь тоже баба, таких-то беленьких, почитай, не вижу. По ласке кто не скучает? Нет на свете ничего сильнее доброго слова, доброго дела. Вот теперь нам с тобой обоим хорошо. Перезорюем до утра, а там каждый в свою сторонушку.
Чувство благодарности потянуло меня к Анфисе. Я вдруг предложил ей вместе поехать на Урал, в Донбасс, поискать работу. Сейчас везде стройки открываются. На какие безрассудства не идет молодость?
Она засмеялась очень довольная и нежно, как-то по-матерински, пригладила мои грязные спутавшиеся кудри.
— Молод ты еще, Викторушка. Нет уж, как развидняется — ступай. Отвела я