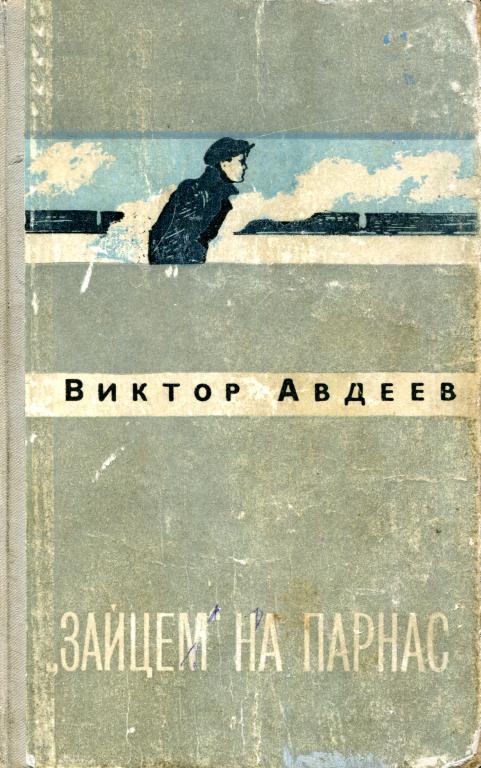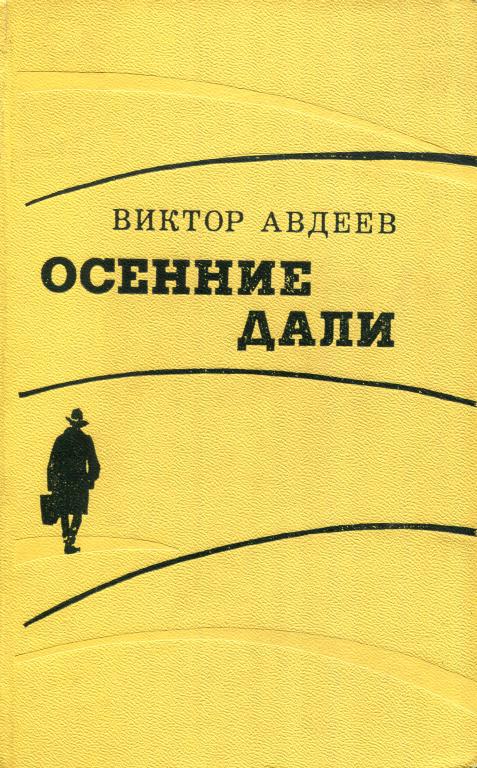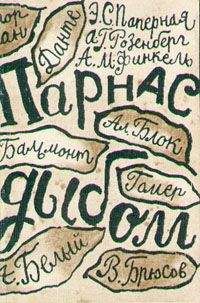колонию. Вот еще беда — нет денег на дорогу. Володя купил себе новые хромовые сапоги, отрез на костюм и истратил всю получку. Что ж: потерпим.
В Старо-Щербиновке у меня был приятель Аристарх Дейнега. Он писал стихи, тоже бредил Москвою, редакциями. Мы с ним уходили за мутноводную Ею, далеко на дамбу в кишащие лягушками, ужами плавни и, ожесточенно отмахиваясь от комаров, мечтали о том времени, когда начнем печататься, прославимся на всю Россию. Я вынимал из кармана заветную, уже полуистертую рецензию, читал вслух, хотя Аристарх, как и я, знал ее почти наизусть.
— Подписал «Л. Ушкин», — говорил я, тыча в листок и прихлопнув у себя на шее комара. — Интересно, кто это? Может, какой знаменитый писатель? Спрашивал я его книги в станичной библиотеке, да разве в этой глухомани что найдешь? Вот брошюры про супоросных свиней — пожалуйста! В Москве непременно разыщу его и покажу «Карапета». Может, понравится, напечатает в «Огоньке».
— За тобой скоро и я приеду, — говорил Аристарх и бил комара на руке. — Не больше, как через год. Наверно, к этому времени ты издашь книжку, тогда помогай.
— Смело положись, — отвечал я покровительственно. — У меня поселишься. Конечно, нашему брату молодому писателю нельзя киснуть в провинции. Вот Л. Ушкин отклонил мой рассказ, а будь я в Москве, поправил бы, глядишь — и вышел! В Москве современные классики живут, есть у кого поучиться. Познакомлюсь, и они покажут, как лучше писать. Да и вообще столица — центр литературной жизни!
Я зажмуривал глаза и видел себя в Москве, как раз в самом центре этой литературной жизни. До чего мне опостылели станичные хаты в насунутых по самые брови камышовых крышах, заросшие крапивой плетни, кипящие тучи комарья вот над этими плавнями, лягушачье кваканье!
— Увидать бы хоть одного поэта, — задумчиво рассуждал Аристарх. — Варишься в собственном соку, не знаешь, что и как. Вот у меня образ: «Фасолина звезды». Свежо, верно? А учитель русского говорит: нельзя. «Золотые звезды» — так надо. Я ему: это раньше дворянин Фет писал, сейчас в литературе революция. Маяковский бы высмеял. А он: все равно нельзя. Фасоль продолговатая, крючком. Лучше тогда: звезды как горох. Так я уже читал в одном стихе «Звезды как горох», зачем подражать? Жил бы недалеко настоящий поэт, пошел бы к нему да спросил.
Парень он был дюжий, с белесыми недоверчивыми глазками, упрямым квадратным подбородком и по-мужски крупными, загорелыми руками. Аристарх кончил девятилетку, рвался в институт; отец, его зажиточный кубанский казак, и слышать не хотел о городе, ученье. «Деды наши на земле сидели, и тебе нечего рыпаться. Оженим — дурь-то из головы вылетит». Аристарх поклялся мне, что бросит «крутить быкам хвосты» и все равно уйдет из станицы.
Отъезд мой в Москву наметили на июль. Брат обещал с зарплаты дать денег на билет. «Как приедешь, — советовал он, — устраивайся учиться или работать». (Лично я считал, что в первую очередь начну печататься.) «Карапет» успешно шел к завершению и очень нравился мне. Он получался лучше «Ночлежки», а с «Колдыбой» и сравнивать нельзя. Теперь-то я окончательно овладел литературным стилем.
О журнальной рецензии услышала и семнадцатилетняя выпускница девятилетки, будущая учительница начальной школы Галя Остапенко. Я сам не знал, нравилась ли мне Галя? Чернобровая, смуглая, с полными губами цвета переспевшей вишни, с горячими, смеющимися глазами, ямочками на локтях, она то казалась мне прелестно-созревшей невестой, то совсем легкомысленной девчонкой. Я находился в том возрасте, когда парней волнуют все девушки и невольно спрашивал себя: не э т а ли? Конечно, сердце мое принадлежит капризной фабзавучнице Клавочке Овсяниковой, но… не вышла ли она уже замуж? Я все еще лелеял мысль прославленным писателем приехать в Харьков и в модном костюме пройтись мимо ее окон — пусть пожалеет, что отвергла такого великого человека. Однако я охотно гулял с Галей Остапенко по пыльным станичным улицам, толковал о прочитанных книгах, сидел рядом в кино.
— Что вы за письмо получили, Витя? — спросила она меня при встрече.
Я залился краской удовольствия. Ничего нельзя было сказать мне более приятного, чем спросить об этом письме. Я сделал вид, будто не догадываюсь, о чем идет речь. Попросит ли Галя его показать?
— Какое письмо?
— Говорят, вам из редакции написали?
— А, вы о рецензии из «Огонька», — ответил я как мог небрежнее и таким тоном, словно чуть не каждый день получал рецензии из разных редакций и забыл, из какой именно была эта.
— Покажите.
— Право, она, наверно, уже затерялась.
Я принял рассеянный вид, словно бы лениво сунул руку в один карман пиджака, во второй и лишь после этого достал из внутреннего бережно положенный, единственный в моей жизни конверт со штемпелем «Огонька». Краешком глаза я жадно косился на розовое ухо Гали, полуприкрытое черной, лоснящейся прядью волос, и вдруг увидел, что девушка прелестна и совершенно неотразима. Как я этого раньше не замечал? Конечно, я хранил верность Клавочке Овсяниковой, но та совсем не понимала мой талант и была равнодушна к искусству. В Гале же я сразу нашел бездну вкуса, ума. Вон как интересуется литературой! Такая была бы достойной подругой в жизни молодого писателя.
— Так ваш рассказ не приняли печатать? — сказала Галя с обидным разочарованием.
Меня поразила ее внутренняя близорукость. Ведь в рецензии же ясно сказано: «…у автора ЕСТЬ литературные способ-нос-ти!» Как же Галя этого не заметила? А эта фраза: «Присылайте что-нибудь новое»? Тоже не заметила? Да за того ли человека я ее принимаю? Имеется ли у Гали хоть крупица вкуса? Уж не обыкновенная ли она станичная мещаночка? Я сухо, уклончиво ответил:
— Мне еще в харьковском журнале «Друг детей» намекали на правила, как подавать произведения. Рецензент «Огонька» Л. Ушкин официально известил, что надо непременно перепечатать на машинке. Я ж послал от руки. Понимаете? Редакция предложила написать о колхозе.
— Будете писать? О нашем старо-щербиновском?
— Еще не решил. Нужно сперва проанализировать. Иностранные слова теперь я употреблял лишь те, которые знал твердо.
Нет, Галя все же как будто интересуется искусством. Ее, пожалуй, можно развить.
— А что это за «Л. Ушкин»? — спросила Галя с новым, непонятным для меня легкомыслием, безо всякого уважения ткнув пальцем в подпись. — Я такого никогда не слыхала. Наборщик?
Об издательском деле я имел весьма смутное представление, однако помнил, что наборщик работает в типографии, а не в редакции. А вдруг Л. Ушкин в самом деле какой-нибудь рассыльный «Огонька», вроде той уборщицы, которую я видел в «Друге детей»?
— Ну не скажите, Галочка, — ответил я, стараясь за тоном превосходства скрыть неуверенность. — Разве вы ничего не читали Л. Ушкина? Это весьма и весьма