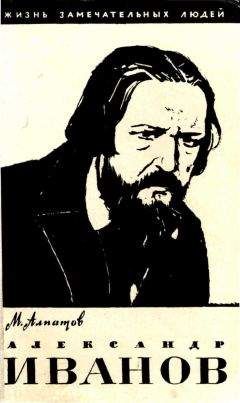В 1833 году Иванову предстояла разлука с его другом: Рожалин собирался в Петербург. Иванов с нежной заботливостью относился к нему и был глубоко обеспокоен его судьбой. Он знал, что Рожалин возвращается на далекий север тяжелобольным, и предвидел опасность появления его в Петербурге, где торжествовала реакция. Но попытки Иванова отговорить своего друга от возвращения были безуспешны.
Портрет Н. В. Гоголя. 1841 год.
С дороги Рожалин прислал Иванову милое, сердечное письмо. Поскольку письмо это должно было миновать царскую цензуру, Рожалин мог откровенно писать о том, что так волновало и занимало их:
«Милый Иванов, я еще жив. А что делаю? Еду да еду со станции на станцию, какая скука! Да авось недалеко последняя, где все съедемся, только не увидимся, по моей философии… Выехал из Рима, в дороге было жарко, а теперь мороз, ливень, слякоть: каково-то в Сибири! Покупаю себе овчинный тулуп, овчинную шапку, ведь там надоть будет овцой прикинуться. Да, моя роль точно овечья — режь, не закричу. Да что обо мне? Уж я отпет. Что-то вы поделываете? Начали картину?»
Рожалин сообщал о том, что во Флоренции и в Дрездене видел картины на тему, которой занимался Иванов, что он любовался «Цецилией» Рафаэля и «Сикстинской мадонной», а в Мюнхене в последний раз поклонился Перуджино. «Уж его не увижу! Как отрадно взглянуть на него в Болоньской галерее! Кругом все почернело, заржавело, а он с Франческо Франча так и сияет, как алмазы. Где более истинного восторга, который всегда прост и серьезен?» Рожалин дружески наставлял Иванова тому самому, чему он, видимо, наставлял его и во время их совместной жизни в Риме: «Учитесь думать, не переставая ни минуты работать». Свое письмо он заключил словами: «Будьте деятельны, веселы и счастливы».
Милые, простые слова Рожалина дышат теплом и любовью. Такие речи Иванову редко доводилось слышать от своих друзей, в будущем ему так и не суждено было услышать нечто подобное. Что же касается до самого Рожалина, то судьба его была беспримерно печальна. Он возвращался в Россию с мыслью о своих друзьях, о сибирских узниках и находил в себе мужество говорить с улыбкой о Сибири как о своей неминуемой участи. Он знал, что от этой участи его спасало только безнадежное состояние здоровья. Но мог ли он предвидеть, что на другой день после своего возвращения на родину он умрет, а все его рукописи и записки, за четыре года накопленные за границей, погибнут от пожара в конторе дилижансов, откуда их не успели получить родные. Почти незамеченным, почти бесследно прошел этот обаятельный, тонкий человек через русскую культуру.
Но памятником его дружбы с Ивановым осталась дивная картина «Аполлон», созданная художником в те годы, когда Рожалин поддерживал в нем потребность думать и, думая, творить.
После отъезда Рожалина из Рима в 1834 году Иванов чувствовал себя особенно одиноким. Правда, его расположение к Лапченко не охладевало, и он заботился о нем, как о младшем брате. Но женитьба Лапченко отдалила друзей, потом он заболел, наконец ослеп и вовсе выбыл из строя художников. Его одобрительно встреченная в Петербурге «Сусанна» была его лебединой песнью. Позднее в Риме появился другой петербургский художник, с которым Иванов сошелся: Федор Иванович Иордан. Но с Иорданом его сближала только преданность каждого из них своему делу. Гравируя «Преображение» Рафаэля, Иордан целыми днями трудился над своей медной доской, и посетители его мастерской могли видеть вещественное доказательство его трудолюбия — вытоптанное его ногами углубление в полу — место, где он часами простаивал над работой. Иордан был старательным мастером, но человеком неширокого кругозора. И, конечно, ему было не под стать служить другом-советчиком Александру Иванову.
В 1838 году Иванову встретился человек, подобно которому ему еще не приходилось встречать на своем жизненном пути.
Один русский путешественник тех лет рассказывает о том, как в кафе Греко, где обычно сходились русские художники, он однажды заметил в темном уголке странного вида посетителя с падающими на лоб длинными белокурыми волосами и длинным птичьим носом. Погруженный в чтение какой-то книги (как оказалось впоследствии, Диккенса), незнакомец словно бы не замечал, что происходило вокруг него. Только позднее выяснилось, что этот молчаливый и сосредоточенный человек с ярко загоравшимися по временам глазами был Николай Васильевич Гоголь, который незадолго до того прибыл в Рим, поселился неподалеку от квартала русских художников и запросто появлялся среди них.
Гоголь был тогда на подъеме своего молодого, крепнущего дарования. Его малороссийские повести, в которых русским читателям впервые открылся мир ослепительных красок юга, народной фантазии и вместе с которыми в литературу ворвался живой народный говор и заразительно раскатистый смех, уже успели обратить на него внимание. Сыгранный на петербургской сцене «Ревизор» произвел небывало сильное впечатление, хотя тогда еще очень немногие догадывались о том, какие выводы можно и нужно сделать из этой беспощадной картины николаевской России. С появлением Гоголя открывалась новая страница русской литературы. Впрочем, молодой автор встретил далеко не единодушное признание. Мракобесы находили у него «балаганное шутовство». Злопыхателям чудилось в сатире его разрушение всех устоев, и они поспешили заклеймить автора «Ревизора» как врага России. Шум, который поднялся вокруг Гоголя, ускорил его отъезд из Петербурга за границу: в этом отъезде было нечто от поспешного бегства.
Но Гоголь не помышлял сдаваться. За границей он был поражен множеством новых впечатлений, но не переставал размышлять о России. «Ни одной строки не мог посвятить я чуждому, — признавался он впоследствии. — Непреодолимой цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я небесам лучшим, приветливее глядевшим на меня».
Погруженный в сочинение «Похождений Чичикова», Гоголь на пути в Рим провел некоторое время в Швейцарии, в местечке Веве. Жители этого городка могли видеть, как, прогуливаясь по его тихим уличкам, странный чужеземец в одиночестве предавался порывам безудержного веселья. И действительно, как было не смеяться, когда на фоне лазурного Женевского озера воображение рисовало ему уродливые призраки обитателей города N.. всех этих Чичиковых, Маниловых, Плюшкиных и Собакевичей.
Не имея первоначально в Риме ни связей, ни знакомств, Гоголь стал часто появляться в обществе русских художников. Первое впечатление его было неблагоприятным: большинство «русских питторе», как он иронически называл наших живописцев, отталкивали его отсутствием умственного развития, пошлостью нравов, низменностью интересов и мелкой корыстью. Гоголь страдал тогда от хронического безденежья и был озабочен своей будущей судьбой. Между тем самый посредственный пенсионер был лучше обеспечен, чем писатель. «Рисуют хуже моего, — жаловался Гоголь, — а получают в год 3 000 р.». Он даже собирался променять призвание писателя на положение пенсионера или на место дьячка посольской церкви, лишь бы иметь возможность подольше остаться в Риме.