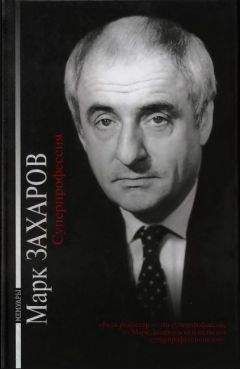Вокруг него всегда образовывалось поле непредсказуемых возможностей и испытаний. Самая обыкновенная реальность неожиданно приобретала черты неправдоподобности. А то, что на первый взгляд казалось невозможно представить и выразить, он ощущал как осязаемую, преследующую его реальность. «У меня во ВГИКе были бредовые идеи снять фильм о том, как человек спит. Правда, потребовалось бы слишком много пленки. Я хотел бы снять момент, когда мы отрешаемся от повседневной жизни и с нами происходит нечто необъяснимое, словно возникает связь с мирозданием, с прошлым и будущим. Обнажаются нити, на которых зиждется наше сознание. Потом я отсмотрел бы материал, все неинтересное вырезал бы, оставив только это непостижимое ощущение соприкосновения человека с космосом. И расшифровал бы эти сны. Если можешь, пойми, что кроется за таким состоянием».
* * *
Андрей был, пожалуй, единственным из известных мне режиссеров, которого было абсолютно бессмысленно о чем-то спрашивать, требовать конкретных указаний. Контакт случался лишь тогда, когда я проникал в его состояние, когда я, актер, сливался с режиссером. Что-то получалось лучше, что-то – хуже, но врать Андрею было невозможно, ибо в таких людях воплощается совесть поколения. И когда мы восхищаемся «Покаянием» Абуладзе, то обязаны сказать и о «Зеркале», о гражданском и художническом поступке Тарковского, всколыхнувшем нашу память, наши раны, нашу невольную и неслучайную вину.
* * *
Когда мы снимали финальный, важнейший эпизод картины «Ностальгия» – безмолвный проход героя со свечой, – Андрей сказал: «Я не знаю, как в твоей жизни, но в моей бывало, что проход, один поступок проживался как вся жизнь, как ее итог. Ты должен всем своим существом почувствовать, эмоционально передать последние шаги перед смертью». На репетиции он огорчался, что я слишком рано «умираю», «наливаюсь кровью». Начали снимать, и вдруг я слышу: «Олег, пора, наливайся!» Этот закрытый, жесткий человек мог быть смешным, и трогательным, и нежным, и смертельно уставшим. А получившийся кадр прохода – это кадр, которым я всю жизнь горжусь…
* * *
Думаю, что Лариса Андрею во многом помогала. Это была мощная натура, сильная женщина, друг, которая везла на себе воз в трудные годы и здесь, в Москве, и на чужбине, когда у Андрея не было средств к существованию. Отсюда разные кривотолки о ней: кому-то якобы не отдала долг, во Франции брала деньги под Тарковского… Верю в одно – все ее действия были только во имя искусства Андрея, цену которому она знала. За ней он был как за каменной стеной. Лариса создавала ему необходимый для творчества микромир. И поэтому он жил и творил.
На съемках «Зеркала» Андрей признался мне, что хочет поставить спектакль в Ленкоме, я рассказал об этой идее Марку Захарову. Естественно, я рассчитывал сыграть Гамлета, но в последний момент Тарковский пригласил Солоницына, а мне предложил роль Лаэрта, от которой я отказался… Это был удар, но и урок, давший мне, думаю, не меньше, чем возможная роль, о которой мы вместе мечтали.
Через несколько лет, когда Анатолия уже не было в живых, Андрей позвонил мне: «Если не держишь зла, приходи». Я сыграл вместо Солоницына в «Ностальгии», и тогда Андрей сказал, что хочет снять со мной киноверсию «Гамлета». Очевидно, он не вполне удовлетворился первым театральным опытом. Увы, идея с Шекспиром не состоялась. Тарковский остался на Западе, меня перестали выпускать к нему на съемки, от моего имени сообщали ему, будто бы я занят… Я узнал об этом уже позже, после его смерти…
О времени, о новых временах
Я делю свою творческую биографию на два времени. В первом, счастливом, времени снималось огромное число картин и была обойма замечательных режиссеров и партнеров. Тогда я очень много снимался, причем это было и авторское кино Андрея Тарковского, и жанровое, которое делал Басов, и романтическое, и картины Марка Захарова.
Конечно, в 70-е и 80-е годы было много негативного, отчего страдали театр и кино: идеологические соображения, цензура… Но вот что интересно – в борьбе со всем этим что-то рождалось. В борьбе писались сценарии, их не пропускали, они лежали, потом к ним возвращались. Запрещались какие-то спектакли, но это были прекрасные работы! А многие все же шли, их пробивали всеми возможными путями… И какие шли процессы, какие рождались театральные коллективы – с трудом, через борьбу! «Таганка», «Современник», Эфрос… А потом, когда все вроде бы стало можно, на литературу напало онемение…
* * *
Было время, когда я пребывал в эйфории от занятости в интереснейших фильмах и спектаклях. Наверное, потом пришла пора расплатиться за это счастье. Ничего в этой жизни не дается даром, и все уравновешивается. Кинематограф, искусство переживали безвременье, отсутствие идей, материала для серьезного осмысления, сценариев, пьес. А актер от всего этого смертельно зависит. Жизнь культуры по среднестатистическим (если не хуже того) параметрам – это очень тяжело: никудышные фильмы, макулатурно-криминальная белиберда вместо книг… Иногда кажется, не конец ли это света, не поздняя ли осень российской культуры. Колосья-то подрезаны давно, и все шло к такому положению вещей.
Я переживал за нашего бедного зрителя, жизнь которого нелегка, и на экране он хочет увидеть то, чего нет рядом. Он не получает зарплату, он не может купить лишнего куска мяса, но на последние подчас деньги он идет в театр или в кино, чтобы, точно в подзорную трубу, «по ту сторону Свана», успокоиться, обрести надежду. В дискуссиях о посещаемости кинотеатров я вспоминаю Индию, где залы всегда полны. Нищий индиец, прихватив из дома самое дорогое, что у него есть, – циновку, вползает с ней в кинотеатр и балдеет от тех сказок, которые производят для него разные «Радж Капур-филмзы». Не дай бог дойти нам до такого состояния.
* * *
В стране все рухнуло, кинопроизводство в том числе. Тогда все и случилось. По приглашению Клода Режи я на полгода уехал в Париж, участвовал в международном театральном проекте, очень напряженно работал… Кстати, последнее эхо обваливавшегося Советского Союза докатилось и до Франции. В Париже я узнал, что подписан указ о присвоении мне звания народного артиста СССР. Это случилось за неделю до того, как страна с таким названием приказала долго жить. Первым народным в 20-е годы стал Константин Сергеевич Станиславский, а я оказался последним… К слову, на вечере, посвященном столетнему юбилею МХАТа, я даже позволил себе шутку на эту тему: «С кого начинали, товарищи, а кем закончили!»
Закончились мои французские гастроли, весной 92-го я вернулся домой и… не узнал Москву. Контраст оказался разительным. Четыре часа назад я гулял по залитому огнями, благополучному Парижу и вдруг перенесся в Москву, где все такое… слово не могу подобрать… серое, унылое, безнадежное. Тоска, словно перед концом света. Я ехал по центру родного города и испытывал чувство, будто попал на чужую планету. Больше всего поразили барахолки у Большого театра и «Детского мира». Примерно в то же время в Москве открыли гостиницу «Савой», и бьющая в глаза роскошь на фоне костров на улице и людей, торгующих с рук всякими тряпками, казалась жуткой нелепицей, сюрреализмом. Я остановил машину, выходить наружу не стал – никакого желания не было – и долго-долго смотрел по сторонам. Это моя родина? Я свежеиспеченный народный артист этой страны? Даже мелькнула мысль: «Господи, куда я вернулся? Зачем?» Нет, об эмиграции, конечно, не думал – упаси боже! – но одновременно и не представлял, чем теперь буду здесь заниматься. Кому тут нужны актеры? Не скрою, какое-то время я испытывал ужас от увиденного. Впрочем, тогда все, наверное, ощущали нечто подобное. Кризис усугубился еще и тем, что я сидел практически без работы. В Ленкоме несколько лет не вводился в новые спектакли, тянул старый репертуар, о кино же на время вообще пришлось забыть – туда ворвались новые люди. За производство фильмов брались все, кто хотел. Поскольку думали не о творчестве, а об отмывании денег, то очень скоро количество выпускаемых картин выросло до четырехсот в год – в начале 90-х в России клепали фильмов больше, чем в Индии. Когда эти новые «кинематографисты» окончательно все оккупировали, отодвинув настоящих профессионалов в сторону, я принципиально перестал сниматься. Понимал: нельзя так распоряжаться своей судьбой. Декоративное присутствие на экране меня никогда не интересовало. Играть – так играть! Я отравлен хорошим кино. Конечно, если бы совсем припекло, наверное, поумерил бы гордыню и пошел сниматься, но, к счастью, передо мной не стоял вопрос: на что жить? У меня был кое-какой выход на Запад, возможность участвовать в театральных постановках в Европе. Без этого я, наверное, не выжил бы. Уехать из страны – такое мне в голову не приходило.