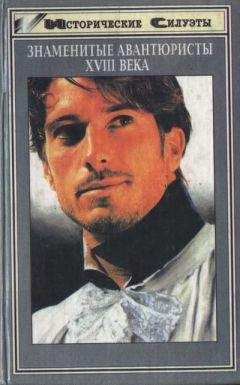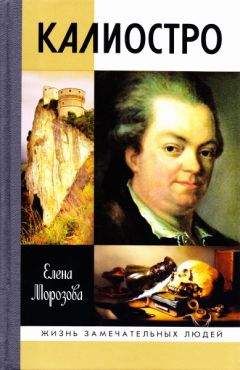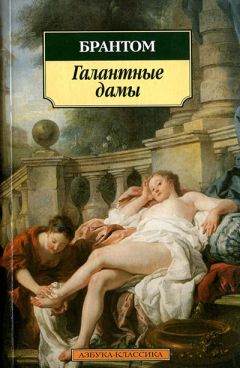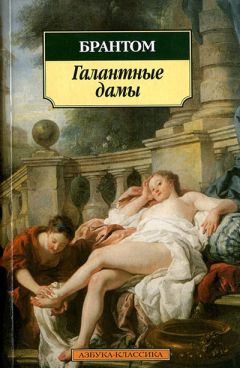— Я вижу, сударь, что вам хотелось бы узнать, зачем тут эта штука. Сейчас объясню вам. Видите ли, когда их превосходительства (т. е. члены Совета Десяти) приказывают задушить арестанта, его усаживают на табурет, задом к этой подкове. Затем его шея вставляется внутрь подковы, а вот эта веревка проходит сюда, в дыру, и охватывает шею спереди. Потом свободный конец веревки наматывают вот на этот ворот и вертят ворот, сдавливая шею приговоренного, пока он не отдаст своей грешной души Господу. Около него, само собой разумеется, остается духовник все время, до последнего издыхания.
— Это очень остроумно, — заметил Казанова. — А кто же занимается вращением ворота, вероятно, вы?
Но тюремщик не удовлетворил его любопытства и знаком пригласил пройти в дверь. Казанова должен был согнуться, почти присесть, потому что дверь была не больше 3,5 футов в высоту. Как только он прошел в дверь, тюремщик захлопнул ее и запер на ключ. Потом, через окно в двери, он спросил Казанову, что он желает иметь на обед. Но узник не чувствовал особенного аппетита, и тюремщик удалился, тщательно замкнув все двери.
Казанова осмотрел свое помещение. Оно было снабжено довольно большим окном, фута два в квадрате, заделанным железною решеткою в шестнадцать клеток. В каморке было бы светло, если бы перед окном не торчал конец громадной деревянной балки, выставлявшейся из стены здания. Каморка была всего в пять футов вышины, так что высокорослый Казанова мог ходить по ней не иначе, как нагнув голову. Она разделялась на две части; две трети общей площади приходились на переднюю часть, а остальная треть образовала какую-то нишу, вроде алькова, где могла поместиться кровать; но в каморке не было ничего: ни кровати, ни стола, ни стула. На полу стоял только гнусного вида сосуд, назначение которого было нетрудно угадать, да в одном месте к стене была прилажена полка. На нее Казанова и положил свой роскошный шелковый плащ и шляпу, отделанную испанскими кружевами и белыми страусовыми перьями.
В каморке стояла удушливая жара. Казанова машинально приблизился к дверному окошку и заглянул в соседнюю каморку, через которую был ход в его келью. Там при слабом свете, проникавшем с улицы, он увидал целое полчище крыс колоссальных размеров. Казанова боялся этих животных до истерики. Он с содроганием подумал о том, что они, пожалуй, проникнут и в его каморку; опасаясь этого нашествия, он запер окно своей двери внутренним ставнем. Затем он облокотился на решетку своего окошка и простоял так часов восемь подряд, немой и неподвижный.
Бой часов неожиданно привел его в себя. Он очнулся и с беспокойством подумал о том, что к нему до сих пор никто не подумал наведаться. Ему должны были доставить хоть стул, стол и кровать и, кроме того, накормить его. Прошло еще три часа, пробило двадцать четыре[14], т. е. полночь. Тогда узником овладело бешенство. Он принялся изо всех сил кричать, стучать, стараясь произвести по возможности самый адский шум и грохот. Но целый час, проведенный в этом бесновании, убедил его, что тюрьма с этой стороны отличалась образцовым устройством; она съедала всякий звук. Его вопли не дошли ни до чьего уха; может быть, впрочем, и дошли, но никто не обратил на них внимания, Измученный и доведенный до отчаяния Казанова, наконец, растянулся на полу своей тюрьмы.
Он лежал и думал. Ему пришло в голову, что инквизиция уже приговорила его к смерти, что его бросили в этой норе и оставят тут, пока он не околеет с голоду, сколько бы он ни кричал и ни бесновался. Он медленно, шаг за шагом перебирал свою жизнь. Он вспомнил свои кутежи, разврат, пьянство, обжорство, свою картежную игру, быть может, далеко не всегда безупречно чистую. Все это было нехорошо и даже мерзко; но во всем этом не было ни государственного преступления, ни еретичества, словом, ничего такого, что, с точки зрения духовного или государственного правосудия, заслуживало бы смерти. И, сознавая себя все-таки невинно страдающим, он вновь впадал в бешенство и изрыгал такую увесистую ругань на своих мучителей, которую потом самому было стыдно вспоминать.
Он был измучен, голоден, его терзала палящая жажда. К счастью, утомление взяло верх над всеми другими удручавшими его казнями, и он заснул. Он все-таки был молод, здоров, силен, и его натура еще очень легко могла сладить со всякими невзгодами.
Он проснулся среди глухой и безмолвной ночи, все время пролежав на левом боку. Проснувшись, он вспомнил, что положил свой платок рядом. Он потянулся за ним правою рукою и вдруг нащупал что-то холодное, как лед. Он свету не взвидел от прилива внезапного страха. Он никогда не допускал в своей натуре даже способности к такому безмерному ужасу. В самом деле, было от чего и ужаснуться: он явственно ощутил мертвое тело, чью то неподвижную мертвую руку. Казанове спросонок и после всех треволнений рокового дня почудилось в этом что-то фантастическое; на него нахлынули воспоминания средних веков. Первые минуты он оставался неподвижен, уничтожен приливом ужаса.
Он лежал как каменный, со вздыбившимися волосами, без звука, даже без мысли. Когда же, наконец, способность размышлять вернулась к нему, он прежде всего припомнил, что в камере раньше не было трупа; значит, труп явился, пока он спал. Какой-нибудь несчастный узник был задушен и брошен рядом с Казановой. Но зачем?.. Чтобы возвестить ему, что его ожидает такая же участь?.. Тогда ужас, вначале поглотивший его мгновенно, сменился пароксизмом бешенства. Он снова схватился за руку трупа, чтобы окончательно убедиться в ужасном факте. Схватив ледяную руку трупа, он хотел встать, уперся на левый локоть и тут только понял, что мертвая рука была его собственная левая рука, которую он отлежал до полного онемения и бесчувствия!
Происшествие с трупом окончилось весьма забавно; но Казанове было не до забавы. Он прежде всего убедился, что попал в такое милое место, где ложное легко могло казаться истинным, а истина — ложью и где здравое рассуждение утрачивало значительную долю своих естественных прерогатив. Он решил взять себя в руки, чтобы впредь, по возможности, не делаться жертвою таких ужасных иллюзий. Он призвал на помощь весь свой запас философии, зародыши которой всегда таились в его душе, но до сих пор еще, за ненадобностью, не были им выращены.
Казанова вновь подумал о сне, но тотчас решил, что ему не уснуть. Хотел встать, но стукнулся головою в потолок; он вспомнил, что каморка низка по его росту, и уселся на полу. Он просидел так часов восемь; начинал уже брезжить дневной свет. Казанова с нетерпением дождался дня; ему почему-то казалось, что как только настудит день, его тотчас выпустят из тюрьмы. И каждый раз при этой соблазнительной мысли, которая превратилась в непоколебимую уверенность, он весь охватывался жаждой мщения. Он видел себя во главе целого народного восстания; он мысленно уже захватывал в плен всех членов утеснявшего его правительства; он избивал без жалости и пощады всех венецианских аристократов. Он знал своих врагов, и его пылкая южная фантазия разила их одного за другим. Он переделывал все государственное правление. Досужая и разболевшаяся фантазия сооружала целую гору из воздушных замков. Как всякий человек, охваченный страстью, он совсем забыл, что его мышлением руководит не друг — разум, а враг — гнев.