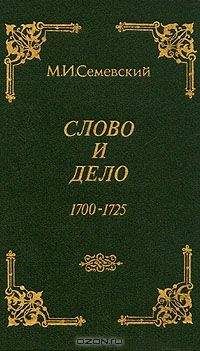…таковое же предписание дать и во все училища, как военного, так и гражданского ведомства, не упоминая только о причинах, кои к оному делу дали повод».
Таким образом, поэт все-таки ввел своих следователей в заблуждение и пустил их по ложному следу. Однако этот документ представляет особый интерес не поэтому, а в связи с тем, что именно на нем царь наложил свою «самодержавную» резолюцию: «Мне это дело подробно известно и совершенно кончено. 31 декабря 1828 г.».[130]
Эта царская резолюция и есть ответ Николая I на письменное показание Пушкина, направленное им (через Верховную комиссию) царю. Вот что писал Пушкин Николаю I лично, вложив в запечатанный им для передачи царю конверт:
«Будучи вопрошаем Правительством, я не считал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной. – Но теперь, вопрошаемый прямо от лица моего Государя, объявляю, что Гаврилиада сочинена мною в 1817 г.
Повергая себя милосердию и великодушию царскому есмь Вашего императорского Величества верноподданный
Александр Пушкин»[131]
Поэт решил признаться царю. Однако этот шаг нельзя расценивать лишь как акт его бесхитростности или доверия к царю (в ответ на императорское доверие). Думается, что в первую очередь это было обдуманное и взвешенное средство защиты, поскольку Пушкин вполне допускал, что «завтра» доказательства его авторства могут появиться в Верховной комиссии. Лучше «честно» ответить за прошлые «грехи», чем за введение в заблуждение императора и Верховной комиссии.
Так закончилось еще одно очень близкое «знакомство» Александра Сергеевича с жандармским ведомством. Однако особого оптимизма такой финал у него не вызывал. Он прекрасно понимал, насколько усилилась его зависимость от царя, насколько он «обязан» царю и насколько труднее будет теперь обрести ему подлинную творческую и личную свободу. Это вовсе не радостное настроение выражено поэтом в стихотворении «Предчувствие»:
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливой бедою
Угрожает снова мне… (3, 72).
Стихотворение это впервые опубликовано в альманахе «Северные цветы на 1829 г.», а затем в «Стихотворениях Александра Пушкина» (1829 г.), где датируется 1828 годом. В советском пушкиноведении оно связывается именно с привлечением Пушкина к секретному следствию о распространении поэмы «Гаврилиада».
Таковы были отношения поэта с жандармами и полицией, так сказать, литературного свойства. Вернемся, однако, к праву поэта на «свободное передвижение» и его жандармскому толкованию. Об этом можно судить хотя бы по его письму к Бенкендорфу от 24 апреля 1827 г.: «Семейные обстоятельства требуют моего присутствия в Петербурге: приемлю смелость просить на сие разрешения у Вашего превосходительства» (10, 228). Отметим, что так обстояло дело еще до установления за Пушкиным секретного надзора Государственного Совета и царя. Фактически свободное передвижение означало право (в случае разрешения Бенкендорфа и царя) на поездки поэта из Москвы в Петербург и обратно либо в Михайловское. Однако и эти (разрешенные) поездки строго контролировались и фиксировались в соответствующих полицейских документах.
Так, в октябре 1827 года Пушкин на пути из Михайловского в Петербург встретил своего лицейского товарища Кюхельбекера, которого, как активного участника восстания декабристов, перевозили из Шлиссельбургской крепости в Динабургскую. Подробности этой встречи зафиксированы не только в дневниковых записках поэта, но и в рапорте фельдъегеря, сопровождавшего осужденного декабриста, на имя дежурного генерала Главного штаба – уже упоминавшегося Потапова:
«Отправлен я был сего месяца 12 числа в г. Динабург с государственными преступниками, и на пути, приехав на станцию Залазы, вдруг бросился к преступнику Кюхельбекеру ехавший из Новоржева в С.-Петербург некто г. Пушкин и начал после поцелуев с ним разговаривать. Я, видя сие, наипоспешнейше отправил как первого, так и тех двух за полверсты от станции, дабы не дать им разговаривать, а сам остался для написания подорожной и заплаты прогонов. Но г. Пушкин просил меня дать Кюхельбекеру денег, я в сем ему отказал. Тогда он, г. Пушкин, кричал и, угрожая мне, говорил, что по прибытии в С.-Петербург в ту же минуту доложу Его Императорскому Величеству как за недопущение распроститься с другом, так и дать ему на дорогу денег; сверх того, не премину также сказать и генерал-адъютанту Бенкендорфу. Сам же г. Пушкин между прочим угрозами объявил мне, что он посажен был в крепость и потом выпущен, почему я еще более препятствовал иметь ему сношение с арестантом; а преступник Кюхельбекер мне сказал: это тот Пушкин, который сочиняет. 28 октября 1827 г.».[132]
Сопоставим с этим служебным рапортом пушкинскую запись этого события: «…один из арестантов стоял, опершись у колонны. К нему подошел высокий, бледный и худой молодой человек с черною бородою, в фризовой шинели… Увидев меня, он с живостью на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга – и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством – я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, – но куда же?» (8, 20).
Сравнение этих документов свидетельствует о том, что и жандармско-полицейские донесения со временем приобретают большую ценность, так как являются важными документальными источниками изучения биографии поэта. В данном случае лишь служебный рапорт фельдъегеря свидетельствует и о смелости поэта, и о силе его любви к своему лицейскому товарищу, и о его стремлении, хотя и безуспешном, как-то облегчить его судьбу. Смелость была необходима уже для одной лишь попытки общения с государственным преступником. Поэт конечно же понимал, что ему в его теперешнем положении (только что «прощенного» царем) это совсем ни к чему. Тем не менее и в этой ситуации Пушкин выступает не в роли жалкого просителя. Зная всю жандармскую публику, он, как говорится, берет фельдъегеря «на пушку», ссылается на свои близкие отношения с царем и Бенкендорфом, угрожает «служивому». Поэт пытается посеять сомнение у фельдъегеря в том, что Кюхельбекер – государственный преступник. Для этого Пушкин старается ввести фельдъегеря в заблуждение тем, что и он, Пушкин, был арестован, но государь, власти, разобравшись, отпустили его на свободу, что то же самое может случиться и с Кюхельбекером. Стараясь хоть как-то облегчить судьбу Кюхли, он пытается передать ему деньги. Следует отметить, что позже Пушкину удалось наладить связь с Кюхельбекером. Он был с ним в переписке, посылал ему книги, пытался публиковать его произведения.


![Олег Хазин - Пажи, кадеты, юнкера[Исторический очерк]](https://cdn.my-library.info/books/44540/44540.jpg)