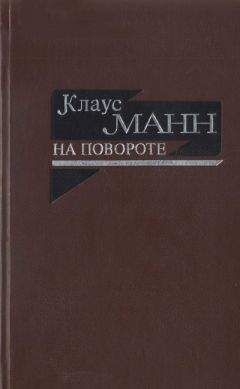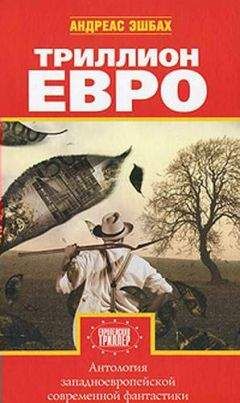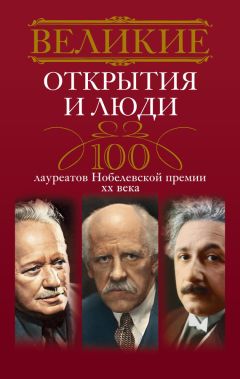Мое рвение участвовать в кровавых событиях не имело ничего общего с патриотизмом или с честолюбием. Другие импульсы побуждали меня: любопытство, мазохизм, сострадание, тщеславие и страх. В этом комплексе чувств на самом деле определяющим фактором должен был быть страх. Не то чтобы я находил ужасным пожертвовать собой ради великого дела, напротив, подобное мученичество казалось мне изысканным и достойным того, чтобы его добиваться, огромным, захватывающим, горько-сладостным блаженством. Было лишь нечто, перед чем я действительно испытывал страх, была лишь одна опасность, от которой меня охватывал ужас: быть исключенным из коллективной авантюры, не принять участие в общем переживании. Нет более унизительной, более печальной роли, чем роль стороннего. В человеке так силен стадный инстинкт, что он предпочтет любую боль мукам одиночества. То был глубокий страх перед моральной и физической изоляцией, он вдохновлял мои воинственные грезы. Я фантазировал о героических братаниях, так как в глубине души осознавал себя предназначенным для испытаний совсем другого рода. В детских мечтах я стремился отречься от истинного закона моей натуры, который всегда запрещает мне принадлежать к достойному сожаления и зависти большинству.
Может ли определенная психологическая предрасположенность привести к органическим нарушениям? Есть ли причинная связь между чуть ли не смертельной болезнью, которую я перенес в 1916 году, и национальным бедствием того исторического часа? Крылья смерти, коснувшиеся столь многих моих незнакомых старших братьев, бросили тень и на мой детский лоб.
Аппендицит принял в нашей семье характер эпидемии, в сбивающем с толку противоречии со всяким медицинским опытом и принципами. Сперва пришлось прооперировать обоих «младших» в течение сорока восьми часов; затем на очереди оказалась Милейн, а в заключение Эрика и я были доставлены в клинику с острым воспалением. В четырех других случаях операция была проведена своевременно; течение болезни было нормальным и удовлетворительным. Со мной же дело приняло тревожный оборот. У меня внутри оказалось «прободение», какой-то ужасный внутренний взрыв, от которого, собственно говоря, умирают. С пугающей точностью вспоминаю я бесконечную поездку от нашего дома до частной клиники надворного советника Креке, которая располагалась на противоположном конце города. Мои внутренности горели, бушевали, бунтовали, казалось, собирались лопнуть. Санитарная машина, ад на колесах, несла меня слишком медленно через отчужденные улицы, через опустевшие площади, навстречу цели, темное имя которой я не знал, но смог бы угадать по трепещущему напряжению и с трудом подавляемому страху Милейн.
Вряд ли стоит упоминать, что моя тяжелая болезнь и тот факт, что «бедный Клаус чуть не умер», должны были стать семейной легендой высочайшего стиля. Мне часто рассказывали, и я никогда не уставал выслушивать такого рода трогательные сведения, как я кричал от боли и как ужасающе был изможден, настоящий скелет, после того как перенес четыре или пять операций. «Прободной аппендицит с осложнениями» — это звучало решительно великолепно и страшно. Мой живот необходимо было располосовать, чтобы надворный советник Креке мог на маленькой решетке распутать пришедшие в совершенный беспорядок потроха и вновь их рассортировать. Из этих мифических испытаний у меня в памяти, разумеется, не осталось ничего, кроме одного-единственного ощущения — чувства почти невыносимой жажды. Неистовое желание воды вытеснило из моего воспоминания все другие картины мучений. Из всего периода болезни не осталось ничего, кроме мимолетного кошмара удушливого мрака и иссушающей жары. Он начинается в раскачивающемся санитарном автомобиле и заканчивается, кажется, уже следующим утром в нашем Тельцском саду. Испуг уже прошел; смерть меня отпустила; лихорадочная жажда утолена. Я держу в руке большой стакан апельсинового сока. Вытянувшись на шезлонге в тени каштана, я вдыхаю тяжелый, насыщенный ароматом воздух лета и выздоровления.
Я был герой, ибо я выжил. Мое окружение — семья, персонал и соседи — было, очевидно, исполнено признательности за душевную силу, которую я выказал, воспротивившись манящему зову смерти. Неудивительно, что я стал смотреть на своих ординарных сестер и братьев несколько свысока; ибо они ведь только жили, что не означает никакой особой заслуги, тогда как я — гораздо более интересный случай! — остался жив, назло всей вероятности и всем прогнозам. Естественно, меня баловали, и я получал все лакомства, какие тогда могла еще раздобыть изворотливая домашняя хозяйка. Ведь господин надворный советник сказал, что мне обязательно надо поправиться. Меня уговаривали съедать столько, сколько смогу. В то время как ежедневный рацион остальных обитателей дома уже довольно чувствительно сократился, вызывало, казалось, всеобщую радость, когда я милостиво снисходил принять еще один бутерброд или кусок торта.
Но это блаженное состояние выздоровления не могло продолжаться вечно. Мои привилегии уменьшались прямо пропорционально прогрессу моего выздоровления. Когда лето кончилось, я обрел почти нормальный вес и всю мою жизнеспособность. Я был достаточно здоров, чтобы снова выдерживать повседневность, суровую повседневность третьей военной зимы в Германии.
Война перестала быть приключением или торжеством; для нас, детей, как и для народных масс, она означала прежде всего недостаток еды. Чем более ухудшалось продовольственное положение, тем более всеобщий интерес концентрировался исключительно на проблеме еды. В конце концов больше не говорили вообще ни о чем другом. Неограниченная подводная война, объявление войны Соединенными Штатами — все это было менее важным, менее волнующим, чем доставание ненормированных гусей или сокращение недельных рационов маргарина. «Мешочничанье» было не только необходимостью, но и спортом, чуть ли не страстью. Домашние хозяйки всегда были в поиске новых источников молочных рек с кисельными берегами. Предпринимались продолжительные экспедиции в деревни, откуда возвращались с наглухо закрытыми корзинами, полными кроликов и картофеля. Юмористические журналы и уголовные хроники пестрели вопиющими историями о фантастических трюках, которыми пользовались охотники за яйцами, ветчиной и маслом.
Охота за пищей, подчас не обходившаяся без определенного приключенческого очарования, по большей части была, однако, монотонной и удручающей. Я никогда не забуду зимнего утра, когда мы с Эрикой во внезапном приступе благородства решили осчастливить Милейн сюрпризом в шесть столовых яиц. Где-то в пригороде мы обнаружили крохотную лавчонку, в которой приобретались подобные сокровища при наличии достаточного времени и терпения, чтобы выстоять очередь с шести утра до полудня. Именно это мы и сделали — роскошная награда, казалось, стоит любой жертвы. Мы получили яйца. Как гладки и аппетитны они были на ощупь! Шесть хрупких жемчужин, полдюжины нежных талисманов… Сияя от счастья, мы направились домой. Я нес яйца в своей меховой шапке, так как владелец лавки не дал нам бумажного мешка. Но мои голые руки застыли от мороза. Ужасное, неизбежное свершилось: шесть яиц выкатились из шапки, которую я держал неловко, и разбились на наших объятых ужасом глазах. Было неописуемо печально, да, действительно до слез, видеть красивые желтки, которые — желтовато-тягучий ручеек — просачивались между булыжниками мостовой. И мы тут же расплакались. Мне теперь кажется, что наши слезы оледеневали, скатываясь по щекам. Никогда мир не казался мне столь холодным, столь непостижимо жестоким и грозным.