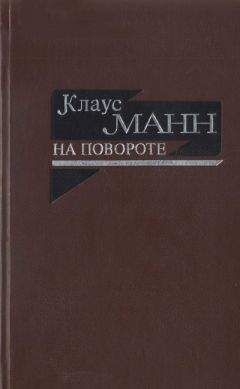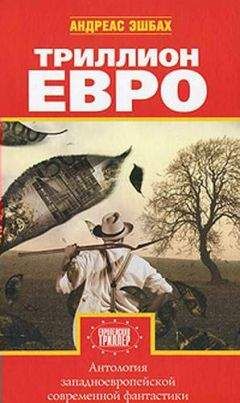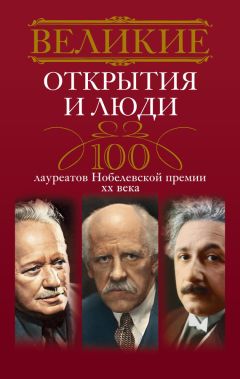Охота за пищей, подчас не обходившаяся без определенного приключенческого очарования, по большей части была, однако, монотонной и удручающей. Я никогда не забуду зимнего утра, когда мы с Эрикой во внезапном приступе благородства решили осчастливить Милейн сюрпризом в шесть столовых яиц. Где-то в пригороде мы обнаружили крохотную лавчонку, в которой приобретались подобные сокровища при наличии достаточного времени и терпения, чтобы выстоять очередь с шести утра до полудня. Именно это мы и сделали — роскошная награда, казалось, стоит любой жертвы. Мы получили яйца. Как гладки и аппетитны они были на ощупь! Шесть хрупких жемчужин, полдюжины нежных талисманов… Сияя от счастья, мы направились домой. Я нес яйца в своей меховой шапке, так как владелец лавки не дал нам бумажного мешка. Но мои голые руки застыли от мороза. Ужасное, неизбежное свершилось: шесть яиц выкатились из шапки, которую я держал неловко, и разбились на наших объятых ужасом глазах. Было неописуемо печально, да, действительно до слез, видеть красивые желтки, которые — желтовато-тягучий ручеек — просачивались между булыжниками мостовой. И мы тут же расплакались. Мне теперь кажется, что наши слезы оледеневали, скатываясь по щекам. Никогда мир не казался мне столь холодным, столь непостижимо жестоким и грозным.
Было бы преувеличением утверждать, что мы по-настоящему бедствовали; но скромная правда, что мы всегда были голодны. Не подлежит сомнению, что такой глубокий и интенсивный опыт, как голод, оставляет определенные черты в физической и духовной конституции человека. Благосостояние и изобилие больше не принимаешь как нечто само собой разумеющееся, если познал однажды, что значит мечтать о хлебе как о манне небесной. Еда, вещи, обувь, уголь, мыло, писчая бумага — все, что мы осязали, нюхали или глотали, было эрзацем, жалкой чепухой. Это должно было быть тяжелое время для нашей матери, гораздо тяжелее для нее, чем для нас. Прокормить четверых прожорливых детей и одного разборчивого, деликатного мужчину в таких ненормальных условиях, конечно, было не просто. Она делала свое дело великолепно — достижение тем более достойное восхищения, если вспомнить о происхождении и прошлом Милейн. Сказочная принцесса, которую мы знаем из «Королевского высочества», вынуждена была теперь справляться с очень жестокими и прозаическими проблемами. Мы, дети, не только хотели есть, но и должны были иметь одежду. Расшитые блузы и прелестные матросские костюмы, купленные нам в 1914 году, к 1917 году давно износились и мы из них выросли. А тут еще обувь! Ведь кожи было почти столь же мало, как масла. Некоторое время мы носили тяжелые деревянные сандалии, которые при каждом шаге производили ужасный стук, но вскоре они нам опостылели, и мы предпочли бегать просто босиком.
Традиция воскресной трапезы в доме дедушки и бабушки поддерживалась и в войну. Но праздничное меню состояло теперь по большей части из тощей птицы — своего рода цапля, пронзительно отдающая рыбьим жиром, — и отвратного розового эрзац-пудинга. Лишь добротное великолепие столовой и несокрушимое достоинство Оффи удерживали эти встречи от соскальзывания в полное убожество. В самом деле, поведение хозяйки оставалось столь величественно-непринужденным, что гости были склонны принимать ограниченный стиль хозяйства как элегантную прихоть. Тот печальный факт, что наш собственный хлеб мы должны были приносить с собой, казался забавной комедией благодаря весело-уверенной Оффиевой манере держаться. Ее смех, когда мы передавали старому дворецкому свою скромную порцию, завернутую в газету, рассыпался жемчугом, как и прежде.
«Если бы только я могла потребовать от всех гостей приносить с собой свои порции! — шутила она и прибавляла не без удовлетворения, наливая чай в нежные китайские чашки: — С чаем-то я еще как-нибудь продержусь. В конце концов, война ведь не может длиться вечно…»
Кончится ли действительно когда-нибудь она — большая, долгая, давно знакомая война? И можно ли представить себе мир без нее? Мир с достаточным количеством еды и без победных торжеств? Мы уже не совсем верили, что вещи типа взбитых сливок действительно существовали в мирное время; они относились к миру сказки. Иногда мы расспрашивали Милейн о тех легендарных днях, которые якобы когда-то были и которые — якобы — когда-нибудь снова наступят.
«Как это, собственно, — мир? — допытывались мы. — Что, и в самом деле в мирное время едят каждый день мясо и сладкое? И не вредит желудку — так много есть? У нас тоже каждый день будут жаркое из оленины и слоеный шоколадный торт, когда Германия победит? Почему же еще не победили? Ведь наша армия лучшая, а у других-то нет таких хороших генералов, как Людендорф, Макензен и Гинденбург{42}. Наш учитель говорит, что мы, по-видимому, в этом году уже победим. Он всегда немного плюется, когда взволнован. Сегодня он особенно брызгал слюной, рассказывая нам о победе Германии. Как ты думаешь, до Рождества мы успеем победить?»
Но Милейн, казалось, пребывала в на редкость подавленном настроении. «Никто этого не знает, — сказала она неопределенно и печально. — Быть может, он прав, твой учитель. А может, и нет. Война может продлиться тридцать лет — теперь, когда и американцы еще против нас…»
«Но учитель говорит, это ничего не значит, — упорствовали мы. — Америка или кто другой, говорит он, мы их всех побьем!»
«Может, он и прав, — повторила Милейн все с тем же раздумчивым и рассеянным выражением. — Но я, пожалуй, в это не верю. Нет, я не могу больше по-настоящему верить…» Ее лишенному иллюзий реализму отец противопоставлял некую своеобразную убежденность. Не то чтобы между ними когда-либо происходил спор. В нашем присутствии никогда не вырвалось ни единого громкого слова. Но мы были достаточно наблюдательны, чтобы заметить различия между их взглядами. Милейн уже потеряла свою веру в германскую победу, тогда как у отца оптимизма, казалось, еще не убавилось. Неужели не было у него никаких предчувствий, никаких сомнений? Наверное, были; но он скрывал их от своего окружения и, возможно, также и от самого себя.
Как странно чужд и далек казался он, этот отец военных лет. В корне отличный от хорошо знакомого Волшебника мирного времени. Отцовский облик, как я его вспоминаю из той эпохи, не имеет ни доброты, ни иронии, двух столь существенных черт его характера. Выражение его лица, всплывающее передо мной, напряженное и строгое. Чувствительный, нервный лоб с нежными висками, пасмурный взгляд, очень сильно и прямо выступающий между впалыми щеками нос. Это бородатое лицо, удлиненный, горестный овал, странным образом обрамлено жесткой, колючей бородой. Действительно, он в ту пору отпустил бороду, временно правда, всего на несколько недель, в деревне. Это проявление воинственного настроения нас, детей, должно быть, очень впечатляло. Отец военного времени — бородат. Его черты, гордые и страдальческие одновременно, похожи на черты одного испанского дворянина, странствующего рыцаря и мечтателя Дон Кихота.