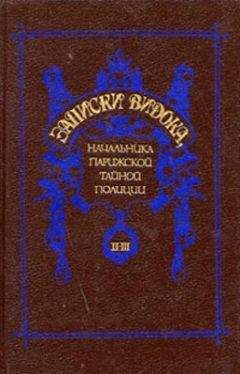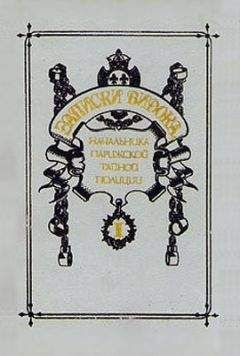Составляя свои записки, я сначала предполагал кое-что сократить и умолчать, ввиду моего личного положения — это была осторожность с моей стороны. Хотя помилованный с 1818 года, я, однако, не был вне строгости административных мер; грамота помилования, которую я получил, не была формально утверждена; за отсутствием ревизии очень могло случиться, что власти, в распоряжении которых я находился, заставят меня раскаяться в некоторых разоблачениях. Но теперь, когда я в своем торжественном заседании, состоявшемся 1 июля, уголовный суд в Дуэ объявил, что мне возвращаются права, отнятые у меня по ошибке, — теперь я не опущу ни слова, не скрою ничего, что мне следует сказать, я буду нескромен именно в интересах государства и общественного блага; намерение это будет просвечивать во всякой странице моих записок. С тем, чтобы безукоризненно выполнить эту цель и никаким образом не обмануть общего ожидания, я возложил на себя задачу, весьма тяжелую для человека, более привыкшего действовать, нежели повествовать, — а именно: изменить часть своих записок. Они были уже готовы, вполне окончены, и я мог бы обнародовать их в таком виде, но, не говоря уже об излишней сдержанности, читатель легко мог бы заметить в них постороннее влияние, которому я подчинился невольно, не сознавая этого. Не доверяя самому себе и мало знакомый с требованиями литературного мира, я часто подчинялся советам и наущениям одной личности, называвшей себя литератором. К несчастью, я узнал, что этот господин был за известное вознаграждение подослан ко мне с целью изуродовать мою рукопись и представить меня самого в гнусных красках, искажая смысл того, что я хотел сказать. Весьма серьезное приключение, случившееся со мной, — перелом правой руки, вследствие чего мне принуждены были отнять ее, — содействовало выполнению этого плана. Поспешили воспользоваться временем, когда я терпел страшные муки. Первый том был уже напечатан, когда открылась вся эта гнусная интрига. Чтобы вполне разоблачить и разрушить ее, я мог бы начать свою историю снова, но до сих пор дело шло только о моих личных приключениях, и хотя меня стараются в них представить в дурном свете, но я надеялся, что, помимо разных мелочей, факты остаются те же, и поэтому сумеют оценить их по их значению и вывести из них справедливые заключения. Вся часть рассказа, касающаяся моей частной жизни, оставлена мною неприкосновенной; я был властен принести в жертву свое самолюбие — жертву эту я принес, рискуя заслужить обвинения в нескромности. Но со времени моего поступления в булонские корсары можно заметить, что я веду рассказ самостоятельно. Барон Пакье одобрил мою прозу; он всегда имел к ней особенную слабость; помню, как часто он хвалил редакцию докладов, которые я представлял ему; как бы то ни было, но я исправил недостатки, насколько был в силах, и, невзирая на то, что я сильно занят управлением большого промышленного заведения, учрежденного мною, — я решился окончательно переделать часть моей книги, касающуюся полиции. Необходимость подобного труда причинила некоторое промедление, но в то же время она оправдывает его, и публика ничего не потеряет. В былое время Видок, находясь под гнетом обвинения, мог говорить не иначе, как с известной сдержанностью, теперь же Видок, свободный гражданин, имеет право выражаться открыто.
Мошенники до революции. — Развлечения некоего генерал-лейтенанта. — В былое время и теперь. — Смерть Картуша. — Вербовка волонтеров в колониальные полки. — Горбуны, выстроенные в шеренгу, в галоп хромых. — Пресловутый Фламбор и прелестная еврейка. — «Chauffeur», превратившийся в полицейского сыщика. — Можно быть в одно и то же время патриотом и вором. — Лучшие друзья в свете. — Два часа, проведенные в Сен-Роше. — Старик в затруднительном положении. — Опасность проходит мимо корпуса жандармов. — Бупиль принимает меня за зубного врача.
Не знаю, каких таких сыщиков имели при полиции гг. Сартин и Ленуар, известно только то, что во времена их администрации ворам была, что называется, лафа, и их водилось немало в Париже. Главный начальник полиции мало заботился о том, чтобы остановить их подвиги, это было не его дело; только он не прочь был познакомиться с ними и от времени до времени заставлял их забавлять себя, если знал их за людей ловких и искусных в ремесло.
Приезжал, например, в столицу какой-нибудь знатный иностранец; начальник тотчас же снаряжал к нему цвет мошенников и за приличную плату, обещанную заранее, предлагал им доказать свое искусство, похитив у приезжего часы или какую-нибудь ценную вещь. Если покража удавалась, то немедленно уведомляли об этом господина начальника полиции, и иностранец, явившись к нему, разевал рот от удивления: едва успевал он заявить о пропаже, когда вещь уже возвращалась ему.
Де Сартин, о котором было столько толков и о котором продолжают говорить до сих пор, не нашел, по-видимому, лучшего средства, чтобы доказать, что французская полиция лучшая во всем мире. Подобно своим предшественникам, у него было странное пристрастие к мошенникам, и те из них, чью ловкость он раз особенно заметил и отличил, могли быть уверены в безнаказанности.
Часто он делал вызовы; призвав их в свой кабинет, он обращался к ним со словами: «Господа, дело идет о том, чтобы поддержать репутацию и честь парижских мошенников; уверяют, что вам не удастся совершить такую-то покражу… Лицо, до которого это касается, настороже, поэтому примите предосторожности и подумайте о том, что я поручился за ваш успех».
В эти счастливые времена г. начальник полиции не менее гордился своими мазуриками, нежели блаженной памяти аббат Сикар своими глухонемыми. Важные сановники, посланники, принцы, сам король приглашались любоваться на их подвиги. В наше время держат пари на скаковых лошадей — тогда держали пари на искусство карманников. В обществе, если желали повеселиться, то посылали за одним из мазуриков, находящихся в распоряжении начальника полиции, так просто, как теперь послали бы за жандармом. У г. де Сартина всегда было их под рукой штук двадцать самых пронырливых — для развлечения двора. Обыкновенно это были маркизы, графы, дворяне или, по крайней мере, люди, имеющие вид и манеры придворных, от которых их тем труднее было отличить, что в игре их соединяла общая наклонность, страсть к шулерству и плутовству.
Хорошее общество, по своим манерам и привычкам мало разнившееся от мошенников, могло, не компрометируя себя нисколько, допустить их в свою среду. Я читал в мемуарах времен Людовика XV, что их приглашали на вечера, как в наши дни приглашают за деньги знаменитого престидижитатора мсье Конта или известного певца.