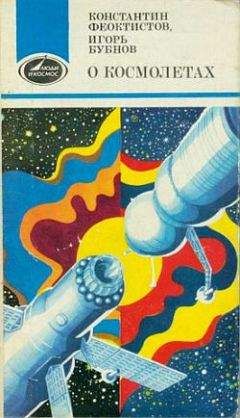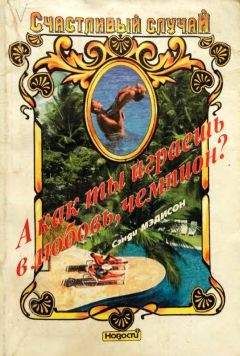— Не исключено. Так вот, разговорились мы тогда с Комаровым, и я убедился, что он просто умница. Это, кстати, помогло мне развеять предубеждение и против других молодых летчиков-космонавтов — они все почтя оказались интересными людьми, каждый со своей индивидуальностью. Не могу сказать, что мы впоследствии стали друзьями, но это, наверное, по моей вине. Я вообще трудно схожусь с людьми.
— В вашем экипаже был еще врач. Кстати, кто придумал составить экипаж именно таким образом — включить в него еще и медика?
— Кажется, Сергей Павлович. Со специалистами-биологами он сотрудничал еще в 50-е годы, когда проводились высотные ракетные полеты с животными на борту. В последние годы это сотрудничество стало еще теснее — медики и биологи (В. И. Яздовский, Н. Н. Гуровский, О. Г. Газенко, А. И. Генин и др.) участвовали в разработке системы жизнеобеспечения для «Востока», организовывали отбор космонавтов. Вот почему не исключено, что, подобно нам, они «приставали» к Королеву, доказывая необходимость послать в космос медика… С Борисом Егоровым, который был сотрудником Института медико-биологических проблем Минздрава, мы познакомились уже во время подготовки. И опять должен признаться, он не сразу привлек мои симпатии. Его контактность, активность в отношениях показалась мне несколько, нарочитой. В одежде и манерах было что-то, как я считал, пижонистое. Но оказалось, я просто плохо знал молодых людей (все-таки 11 лет разницы между нами), тем более он из другой, не инженерной среды. Очень скоро я понял, что все в нем естественно, а активность совсем не от нахальства, а, наоборот, от большой внутренней скромности. Он оказался хорошим профессионалом в своем деле, человеком с разнообразными и притом вполне серьезными увлечениями. Я ему до сих пор благодарен, например, за то, что он в дни подготовки познакомил меня с джазовой музыкой. В профилакторий он приносил магнитофон и крутил разные записи. Помню, рассказывал мне о Рое Кониффе. Мне вдруг открылась красота и глубина этой музыки, которая до того проходила мимо моих ушей, я начал чувствовать интерес к различным стилям и аранжировкам. А вообще, надо сказать, в то время круг моих интересов был довольно узок. Практически он не выходил за пределы моей специальности. Все мои развлечения сводились к эпизодическим лыжам и грибам по воскресеньям (если не работал) да еженедельной парной бане в Сандунах или Центральных.
— Сам полет, наверное, уже подзабылся?
— В деталях, конечно, но некоторые моменты запомнились, видимо, на всю жизнь. Прекрасно помню свои мысли накануне (сейчас даже забавно): не сглазить бы каким-нибудь образом полет. Все космонавты перед полетом живут в состоянии большого напряжения, которое внешне почти не проявляется, не сказывается даже на объективных показателях — пульсе, давлении, сне, но все равно оно есть, и каждый с ним борется по-своему. Напряжение это происходит от опасения большой или маленькой случайности, из-за которой могут отменить полет или участие в нем.
— Некоторые, я знаю, очень боятся за себя, боятся простудиться или оступиться, становятся предельно, а иногда и чрезмерно осторожными.
— Понять их можно. Это теперь полетов стало много, задачи самые разные, подготовка к их решению идет на более профессиональном уровне, и из-за какой-либо случайности могут лишь отложить полет, но не вывести космонавта из отряда. Хотя, конечно, организм человека вещь тонкая и с ним в ходе длительной, напряженной подготовки всякое может случиться. Но причина может быть и вовне — отказ техники. В дни предстартовой подготовки еще ничего — отказ лишь притормаживает процесс подготовки, иногда сдвигает сроки старта, но на жизни и работе экипажа это почти не сказывается. Но вот позади предстартовая ночь, космонавты прошли последний медицинский осмотр, надеты скафандры… Впрочем, нашего полета это не касалось, мы были в плотных шерстяных костюмах типа спортивных.
— Кстати, вам так и не довелось тогда примерить космический скафандр?
— Тогда — нет. Но впоследствии, когда мы в очередном проекте планировали использовать скафандры, я решил сам испытать ощущение космонавта в скафандре и летал в нем на Ту-104 в экспериментах на невесомость… Когда лифт доставляет космонавтов на верхнюю площадку и их усаживают, вернее, укладывают в кресла и до старта около двух часов, внешне они очень спокойны, деловиты и всегда шутят. Но при этом каждый помнит, что может быть отказ, «сброс схемы», и тогда надо вылезать, спускаться вниз, переодеваться и снова ждать, и, может быть, кому-то не доведется занять место в корабле вновь. То же было и у меня.
— У вас была миссия инженера-испытателя «Восхода» и, следовательно, был специфический интерес к работе его систем?
— Конечно, и все же для меня как проектанта «Восход» был уже прошедшим этапом, и мысли мои тогда больше были заняты уже «Союзом». Полет — это был в известной степени отдых от «Союза». И потом просто хотелось полететь в космос.
— И вот пришел день старта…
— Спал я накануне прилично, правда, ворочался много. В голове утром было свежо, и настроение отличное. Когда поднялись на верхнюю площадку башни обслуживания, я успел полюбоваться пейзажем и рабочей обстановкой на стартовой площадке. Вокруг меня очень красиво, внизу деловито двигались маленькие фигурки людей. Уселись мы плотно в наши ложементы, вышли на связь с «Зарей» и стали ждать. Снова тихонечко подползли опасения: не за корабль, нет, а за ракету — ей ведь нас везти на орбиту. Вдруг что-нибудь в ней откажет, и она не захочет лететь. Когда включились двигатели и ракета пошла вверх, вот тут только наконец возникло ощущение неотвратимости факта. Первые секунд двадцать пять у всех нас, видимо, напряжение было очень высоким (потом медики меня уверяли, что пульс мой подскочил, хотя я этого не ощущал). Более того — нахлынуло ощущение великой радости: «Свершилось! Я в полете!» Хотя, конечно, все еще могло быть — вторая ступень должна была отработать свое, и третья вовремя включиться и тоже отработать как надо…
— Все-таки надежность носителя «Восток» и его модификаций поразительна: более 40 пилотируемых стартов, и только раз — в 1975 году — корабль не вышел на орбиту.
— Да, но тогда, в 64-м такой статистики еще не было… Отделился наш корабль от последней ступени, и сразу мы стали обмениваться впечатлениями о невесомости. В целом я чувствовал себя вполне прилично, хотя некоторое ощущение дискомфорта было. Стало ясно, что невесомость в самолете — это все-таки совсем не то, там ты весь пронизан мыслью о кратковременности неожиданного состояния и его неустойчивости. А здесь… Об этом так много писалось, что скажу только, что все было мне предельно интересно в полете. Все хотелось увидеть, ощутить. В корабле было, мягко выражаясь, не очень то просторно, но, когда понадобилось достать из-под кресла один прибор, я с удовольствием отвязался, отделился от ложемента, развернулся и нырнул «вниз». Все занимались своими делами. Забот было много, даже суеты. Егоров пытался что-то с нами делать — брал анализ крови, мерил пульс и давление, и, к нашему удивлению, это ему неплохо удалось. Помню, что все трое мы то и дело выражали свои восторги. Особенно впечатляющим было зрелище полярных сияний, восходов, и заходов Солнца. Пообедали из туб. Потом Володя и Борис — по программе — задремали, а мне выпала вахта, и я прильнул к иллюминатору. Смотреть на это чудо — проплывающую физическую карту мира — можно было бесконечно. Все так легко узнаваемо: вот Африка, вот Мадагаскар, Персидский залив, Гималаи, Байкал, Камчатка. Потом мы снова все вместе работали, разговаривали с Землей, делали записи. Наблюдали слои яркости — надо было замерить их угловые размеры с помощью секстанта, зарисовать, снять характеристики с ионных датчиков. Ну и конечно, фотографировали — поверхность Земли, горизонт, восход Солнца. Снаружи, на приборно-агрегатном отсеке, у нас стояла телекамера, экран которой был перед нами. Вдруг по нему пошли какие-то непонятные лучи. Мы не знали, что это такое, и стали снимать экран на пленку. Потом на Земле поняли — это было Солнце, вернее, его след на люминофоре. Настолько мы вошли во вкус полета, что стали убеждать «Зарю» о его продлении на сутки, но с этим, конечно, ничего не вышло.