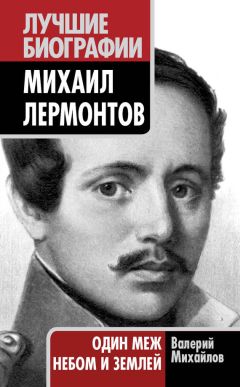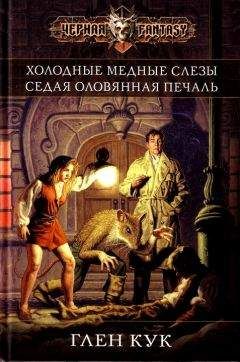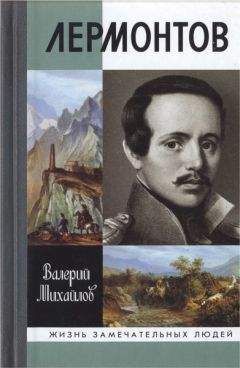Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни. Отлично принятый в свете, любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером. Веселое расположение духа проснулось в нем опять в этой дружественной обстановке, он придумывал какую-нибудь шутку или шалость, и мы проводили целые часы в веселом смехе благодаря его неисчерпаемой веселости.
Однажды он объявил, что прочитает нам новый роман под заглавием «Штосс», причем он рассчитал, что ему понадобится по крайней мере четыре часа для его прочтения. Он потребовал, чтобы собрались вечером рано и чтобы двери были заперты для посторонних.
Все его желания были исполнены, и избранники сошлись числом около тридцати: наконец Лермонтов входит с огромной тетрадью под мышкой. Принесли лампу, двери заперли, и затем начинается чтение; спустя четверть часа оно было окончено. Неисправимый шутник заманил нас первой главой какой-то ужасной истории, начатой им только накануне; написано было около двадцати страниц, а остальное в тетради была белая бумага. Роман на этом остановился и никогда не был окончен».
Однако не все так просто: во-первых, у Лермонтова, кроме шуток, все всерьез: только ли шуткой было это чтение, устроенное своим ближайшим друзьям? Во-вторых, хотел ли он вообще оканчивать этот свой «роман»?
В записной книжке, что подарил поэту на его отъезд князь Одоевский, среди последних стихов, сплошь отмеченных гением, есть запись, относящаяся к неоконченной повести, повторяющая игру слов: «Штосс» – «– Что-с?» Исследователи творчества поэта, на основании этой позднейшей записи, полагают, что Лермонтов намеревался продолжить повествование. Может быть, так – но вполне возможно, что и нет. Известно, Лермонтов не редко остывал к начатым произведениям, увлекаясь новыми темами, вернее сказать – проскакивал старое в своем стремительном созревании и возрастании как писательском, так и человеческом. И как раз в последние месяцы своей земной жизни этот рост был даже для него небывалым… Не расстался ли он таким образом, по дороге на Кавказ, и со своим «Штоссом»? Ведь очень похоже, что в последних словах повести поэт сказал не столько о своем герое Лугине, сколько о себе – рассказав что-то важное о прошлом в себе и загадав друзьям про себя загадку – о своем будущем. Не секрет, он порой проговаривался, одному-другому, о своих планах. Лермонтов хотел решительно переменить свою жизнь: уйти в отставку, издавать свой литературный журнал, написать три задуманных романа из русской жизни. Все это требовало совершенно другого образа жизни – так сказать, оседлого , домашнего, а не кочевого . Не потому ли в повести «Штосс» Лермонтов так безжалостно (прежде всего, по отношению к себе) рассчитывается с вечной своей мечтой – стремлением к женщине-идеалу, женщине-ангелу? Такое впечатление, что он решительно прощается со своими тайными былыми чувствами, признавая их заблуждением: недаром же называет эту мечту «самой вредной для человека с воображением»…
Поэт готов для новой жизни. Но – отставки ему не дают и жить, как потребно душе, не позволяют. Словно дожидаются, пока он не сломит где-нибудь буйную голову… И, понимая это, Лермонтов провидит свое самое вероятное будущее.
Евдокия Ростопчина вспоминала:
«…Лермонтову очень не хотелось ехать, у него были всякого рода дурные предчувствия. Наконец, около конца апреля или начала мая мы собрались на прощальный ужин, чтобы пожелать ему доброго пути. Я одна из последних пожала ему руку. Мы ужинали втроем, за маленьким столом, он и еще другой друг, который тоже погиб насильственной смертью в последнюю войну. Во время ужина и на прощанье Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его, казавшимися пустыми, предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и сжимали сердце. Через два месяца они осуществились, и пистолетный выстрел во второй раз похитил у России драгоценную жизнь, составлявшую национальную гордость…»
…Владимира Одоевского, в ответ, Лермонтов отдарил своею картиной. На ней осталась запись: «Эта картина рисована поэтом Лермонтовым и подарена им мне при последнем его отъезде на Кавказ. Она представляет Крестовую гору…»
Крест и гора – все сойдется 15 июля у подножия Машука: и символ, и местность…
«Я – или Бог – или никто!»
1
Но вернемся в начало 1830-х годов, когда юноша Лермонтов, незаметно для всех, оканчивает свое формирование как поэта и как человека. Не доверяя почти никому из окружающих своего творчества, веря и не веря в свой талант, ведомый глубокой интуицией и прихотливой творческой волей, он к восемнадцати годам тем не менее утверждается в самом себе. Пять лет непрерывного, по сути тайного ото всех писания стихов были для него, прежде всего, испытанием своей души, постижением себя. Напряженный труд ума, размашистое, как лавина, воображение, – да мало ли чего тут еще не было!.. – но главное – его понесли певучие волны незримой творческой стихии, то вознося к небесам, то низвергая в бездны, – та, могучая и страшная, высшая гармония мироздания, что забирает и увлекает за собой самых одаренных, бесстрашных и сильных.
В письме от 28 августа 1832 года, из Петербурга, Марии Лопухиной он пишет:
«Назвать вам всех, у кого я бываю? Я – та особа, у которой бываю с наибольшим удовольствием».
То есть точка опоры найдена – и это собственная душа…
Сказано вполне серьезно, хотя и с небольшой долей самоиронии.
А дальше в письме ирония, если не сарказм, уже и не скрываются:
«Правда, по приезде я навещал довольно часто родных, с которыми мне следовало познакомиться, но в конце концов я нашел, что лучший мой родственник – это я сам. Видел я образчики здешнего общества: дам весьма любезных, молодых людей весьма воспитанных; все вместе они производят на меня впечатление французского сада, очень тесного и простого; но в котором с первого раза можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями».
Подстриженность душ…
Как зорко схватывает юноша, еще не достигший восемнадцати лет, суть великосветского общества!..
И все это на примере «французского сада».
Известно коренное отличие французского парка от английского: первому свойственна геометрическая правильность строений и посадок, зеркальная симметрия во всем, то есть именно подстриженность ; тогда как второй приволен, неправилен и угловат, подчеркивает исконную природную местность и лишь слегка организует ее.