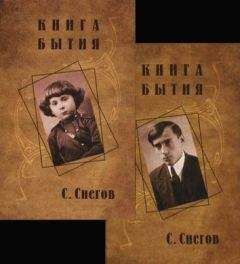— Имею. Дураков хватало всегда и везде. Ни одна эпоха не жалуется на их недостаток. Это непреложный закон истории.
— Назови этот закон своим именем, ибо это твое открытие.
— Когда-нибудь назову. Теперь второе. У нас дураков не меньше, чем на Западе. И глупость не в том, что их терпят, а в том, что недооценивают их проницательность.
— Ты скоро дойдешь до того, что и Гитлера объявишь образцом ума, — презрительно бросил Женя.
— Я сказал — проницательность, а не ум. Ум — это не для толпы. Толпа живет воображением и эмоциями. Народу плевать на глубокие рассуждения, на интеллект, на логику. Ум — это наша узкая область, наша сфера деятельности. А когда умные люди скапливаются в толпу, их всецело охватывают эмоции. И Гитлер это понял.
— Говорю тебе: ты становишься апологетом фашизма!
— Просто пытаюсь уяснить степень его опасности. Гитлер зажигает эмоции, действует на воображение, превращает обычного неглупого человека в часть толпы, и тот заболевает заразной болезнью — чумой неконтролируемого чувства. У фюрера очень действенные методы!
— И ты берешься их проанализировать?
— Конечно. Действует все, что превращает индивидуума в массу. Общие сходки, общие собрания, демонстрации, манифестации, даже митинги (хотя на них может блеснуть и аналитический ум). И действенность этих массовок усиливается, если необычна обстановка: ночь, факельное шествие, общее пение, строй, мундиры, балахоны… Отдельные человеки становятся единым целым: сначала — толпой, потом — отрядом. Умные люди неправильно борются с фашизмом — они высмеивают и опровергают его логически, а его необходимо подавить эмоционально. Не нужно возражать полубезумной толпе — просто нельзя допускать, чтобы в нее превращались нормальные люди. Христос, да и другие пророки, взывали к интеллекту каждого человека — и это была философия. А творцы культов, укрепляя религию, собирали индивидуумов в храмы и окутывали их сладостными дымами, благозвучными песнопениями и общими слезами — то есть все снова и снова занимались победной типизацией личности.
— Неужели ты не понимаешь: чтобы разогнать опасную толпу, нужно применить силу, то есть раньше победить тех, кто ее, толпу, создал?
— Понимаю, Женя. Именно потому меня и пугает фашизм. Он глуп с точки зрения разума. Но разумом его не победить.
Мы разговаривали, пили и закусывали. Смесь мадеры и зеленого пойла была из действенных. У меня уже мутилось в голове. Впрочем, Женя, похоже, опьянел не меньше — во всяком случае, лицо его заметно покраснело.
Обе женщины молча прислушивались к нашему разговору. Они почти не пили и не ели.
Я вдруг запоздало удивился отсутствию Кроля.
— Женя, разве Петя сегодня не приходил?
— Приходил, — хмуро ответил Женя.
От выпивки и от спора, в котором он не чувствовал себя победителем, у него испортилось настроение. В этом он отличался от меня: выпив, я веселел и добрел.
— А почему не остался?
— Потому что не оставили.
— Ты прогнал его, Женька? Он же знал, что я приду.
— Именно потому, что ты придешь, он не остался.
— Он не захотел встретиться со мной?
— Я разъяснил ему, что больше трех человек в этой комнате не поместится. Он понял меня с полуслова.
— Свинья ты, Женя, — от души сказал я. — Нас четверо.
— Четвертая — Оля, она женщина. Это меняет дело.
— Не понимаю.
— Не понимаешь — разъясню. Уже поздно. Скоро придется ложиться. Выгонять тебя и Петю в час, когда перестают ходить трамваи, мне было бы совестно. И положить вас на полу вместе я не мог. Мужчина с мужчиной — это противоречит моим пуританским убеждениям.
— Я все равно ухожу. Отсутствие трамваев меня не смущает.
— Можешь не уходить. Мара постелит вам с Олей на полу хорошее ложе. И тебе, и ей понравится, могу поручиться.
Я взглянул на Олю. Она густо покраснела. Во мне разгоралась ярость.
— Ты, кажется, считаешь себя вправе мне указывать, с кем дружить, с кем встречаться, с кем ложиться? Не слишком ли много на себя берешь?
— А что особенного? Нормальное дело, — сказал он равнодушно. — Никогда не замечал в тебе противожелания к женщинам. А Оля человек одинокий, может ни с кем не считаться. Ты думаешь, она уже не лежала с мужчинами?
Оля расплакалась, уронив голову на руки. Я хорошо знал, что Женя не церемонится ни в выражениях, ни в поступках. Но я думал, что его несдержанность ограничивается только мужчинами. Как он может в моем присутствии жестоко оскорблять женщину?
Я встал, чтобы выдать ему оглушительную оплеуху, но вдруг услышал, что говорила Мара плачущей Оле — и это подсказало мне иную кару.
Мара вела Олю к дивану, гладила ее по голове и утешала диковатым, по-моему, утешением. Оля уже перестала рыдать, но все еще не поднимала головы, чтобы я не увидел ее заплаканного лица. Женя смотрел на них без раскаяния, а с каким-то удивленным любопытством.
— Оленька, не надо расстраиваться, — говорила Мара. — Женька грубиян, но он не хотел тебя оскорблять. В самом деле — что особенного? Я постелю вам обоим. И можешь быть спокойна: никто из наших друзей не узнает, как ты провела ночь.
Я заговорил не сразу — сначала нужно было усмирить ярость. Я притворился, будто продолжаю прежний абстрактно-философский спор. Бугаевского было нетрудно обмануть…
— Скажи мне, пуританин, до каких границ простирается твое пуританство? — спокойно начал я. — Ты, значит, считаешь, что с одинокими женщинами позволено все?
— Я пуританин, а не ханжа, — с неожиданным достоинством ответил он. — Против законов природы я не восстаю. Одинокая женщина — самодовлеющая личность. Она никого не оскорбляет своим поведением. Ее поступки — ее личное дело.
— На замужних женщин твое пуританство распространяется?
— Только на них! Юлий Цезарь, которого ты считаешь величайшим гением в истории, говорил, что его жены не должно касаться даже подозрение, ибо раскованность жены оскорбляет мужа.
— Мысль ясна. Теперь я ухожу. Руки не подам, пока не уясню, чем твое пуританство отличается от хамства и наглости. Можешь меня не провожать: я не пуританин и могу забыть, что ты мой друг.
Я подошел к Оле и нежно поцеловал ей руку. Она только беспомощно взглянула на меня. Я обратился к Маре:
— Мара, милая, проводите меня, пожалуйста, я боюсь заблудиться в ваших бесчисленных дверях.
Она вышла, я последовал за ней.
В коридоре я захлопнул дверь, прижал ее спиной, схватил Мару и притянул ее к себе.
— Что с вами? Что вы делаете? — испуганно закричала она.
— Целуй меня! И поскорей! — потребовал я, обнимая ее. — Твой муж скоро забеспокоится и начнет к нам ломиться. Надо успеть.