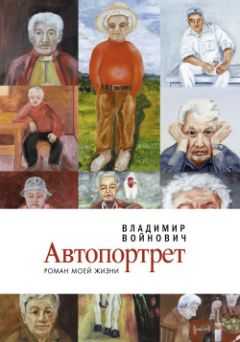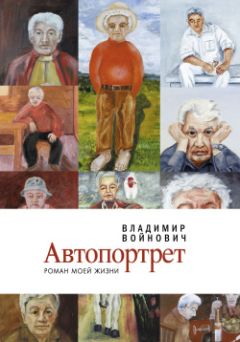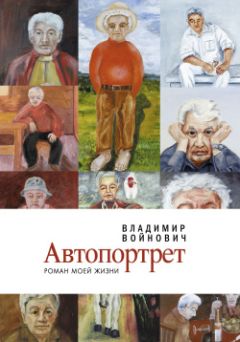Я подозревал, хотя так никогда и не сказал Ире о своих подозрениях, что КГБ убил обоих родителей. Мать прикончили в больнице, а отца у подъезда, чтобы лишить нас причины откладывать отъезд. Я знаю, что многим людям такие предположения кажутся дикими, но я не сомневался, что для КГБ убийство двух стариков, невольно стоявших поперек каких-то планов этой конторы, ничего не стоило.
В день смерти Ириных родителей у меня разыгрался приступ. Эти странные приступы были и раньше, сначала в слабой форме, а после моего отравления в 75 м году они усилились и участились. Врачи так и не смогли поставить никакой диагноз. У меня вдруг останавливалось дыхание, и было ощущение, что я не могу дышать непроизвольно, а как бы сам руковожу этим процессом.
И в этот день начался приступ, самый сильный за все время. Вызвать дежурного врача я не мог — из литфондовской поликлиники был исключен, а в районную не записан. От всех недомоганий меня лечил мой друг микропедиатр Виталий Андрющенко. Сейчас мы его вызвали, и он сидел около меня и все время мерил мне давление, как в реанимации. Я видел его изумление, потому что у меня давление поднималось до невероятных высот, потом падало, чуть ли не до нуля, и опять поднималось. Все время туда-сюда.
Я сказал Андрющенко, что, наверное, эту ночь уже не переживу, и попросил его позаботиться о моей семье.
Он начал меня успокаивать:
— Да ничего страшного.
— Ну да, я вижу, что ничего.
— Ничего органического у вас нет.
— Мне все равно, умру я от органического или неорганического.
Он спорить не стал.
Ира вызвала «Скорую помощь». Приехала «Скорая», врач сделал мне какойто укол и сказал: «Надо срочно госпитализировать». Андрющенко говорит: «Нет». Приезжий врач настаивает на госпитализации. Началась борьба. Меня тащат в разные стороны: врач «Скорой» — в одну, Андрющенко — в другую. Андрющенко победил, и я остался дома. Только к утру приступ прошел. Но я чувствовал себя совершенно больным и был не в состоянии поехать на похороны родителей Иры.
Вскоре опять явился Санин.
— Скажи Идашкину, что у меня больше нет причин оставаться здесь. Я готов уехать в любое время, хоть прямо сейчас, — сказал я, находясь при этом в лежачем положении.
Санин говорит «хорошо» и уходит. Через некоторое время возвращается и передает мне слова Идашкина:
— Юрка сказал, что тебя выпустят. Просто человека, который тобой занимался, сейчас нет. Но ты не беспокойся, тебя выпустят, если, конечно, ты будешь себя хорошо вести.
— Ах, так! — говорю. — Тогда передай Идашкину, и пусть он передаст дальше, что я сейчас, конечно, болен и обессилен, но вести себя хорошо не буду. Пусть на это даже не рассчитывают. Я буду вести себя плохо. До самой смерти. И ставить мне какиелибо условия бессмысленно.
С этим он ушел. Потом было некоторое затишье. С их стороны. С моей — нет. Я тут же собрал иностранных корреспондентов. Сделал заявление, и Ира тоже написала свое заявление. Я сказал все, что думал о КГБ, называя их подлецами. Но о своих подозрениях об убийстве Ириных родителей умолчал, не хотел травмировать Иру.
Просьба срочно зайти в ОВИР
Я болел несколько дней, ко мне вызвали сначала одного врача. Он пришел, сказал, что мне нужен покой, и только покой, и что я должен выпивать по рюмке коньяка в день. Потом пришел другой врач. Он меня послушал.
— А что вы лежите? — спрашивает.
— Как что? Я больной, мне велели лежать.
— Вставайте и идите.
— Куда? — удивился я.
— Куда хотите идите, — ответил он. — Ходите как можно дольше. И как можно быстрее.
Я встал и пошел. Я решил, что я никуда не уезжаю, ни к чему готовиться не буду, а буду жить, как жил, и не стану приноравливаться к обстоятельствам.
Стал заниматься своим здоровьем. Как я потом говорил, я перестал одновременно есть, пить и курить. Обычно старые курильщики, бросив курить, быстро толстеют, а я худел. За короткое время сбросил 10 килограммов, и потому, что жил так: вставал, съедал ложку чегонибудь или поляблока, выпивал чашку кофе и выходил на улицу. Шел быстрым шагом. Мне всегда надо было выбирать какое-то направление. Один из маршрутов пролегал от моего дома у метро «Аэропорт» до метро «Полежаевская» через несколько парков. На преодоление этого маршрута уходило часа два с половиной. Приходил домой, чегонибудь перекусывал и опять шел. Возвращался, ложился спать, вставал, ел, опять ходил. И быстро снизил вес с 80 килограммов до 70.
Однажды я шел мимо турника, и вдруг мне захотелось попробовать на нем подтянуться. В армии, занимаясь гимнастикой, я подтягивался до тридцати раз. Я подошел к турнику, легко подтянулся, перевернулся и сам себе удивился.
Снова курить я начал в день отлета, в самолете.
Я решил, что, очевидно, в КГБ вопрос о моем отъезде решен отрицательно, и не собирался добиваться чегото другого. На чейнибудь вопрос, когда я все-таки уеду, отвечал, что никогда. Но в ноябре ситуация изменилась. Однажды, в воскресенье, ко мне должен был прийти советник по культуре немецкого посольства Герман Грюндель. Ко мне иностранцы часто приходили пообщаться. (Уже потом, когда я жил в Германии, Грюндель рассказал, что немецкие власти и немецкий посол вели переговоры с советскими инстанциями по поводу моего выезда. Давали какието гарантии.) Очевидно, в КГБ хотели, чтобы я сказал Грюнделю, что уже все в порядке.
Было воскресенье, почта не работала. Я вышел в коридор и вдруг слышу, чтото шуршит. Смотрю, под дверь просовывается записка. Я ее схватил, дверь открыл — уже никого нет. Смотрю, это записка из ОВИРа: «Прошу срочно прийти в ОВИР. Капитан Баймасова».
Когда я оклемался, то пришел туда, и меня овировская сотрудница приняла чуть ли не с распростертыми объятиями: «Здравствуйте! Как поживаете? Как ваша доченька?» Дала анкету для советских граждан, выезжающих за рубеж. В анкете было написано, что советский гражданин за рубежом должен проявлять особую бдительность, не поддаваться на провокации и избегать мест скопления эмигрантов. А я нарочно, заполняя анкету, спрашиваю ее:
— А как я узнаю, кто из них эмигранты, а кто нет?
— Ну, как-нибудь… — отвечает она неуверенно.
Еще похожий пункт: «Если за границей вы оказались в купе с лицом противоположного пола, не соглашайтесь ни на какие предложения, поскольку это может быть провокацией».
Мой друг Дэвид Саттер ехал однажды в купе и переспал с лицом противоположного пола. Но Дэвид был американец, а лицо оказалось провокаторшей КГБ.
Белла Ахмадулина предложила устроить прощальный вечер в мастерской Бориса Мессерера на Поварской улице, тогда Воровского. Я пришел туда сначала с четырьмя мешками своих рукописей, и мы с Борей долго их жгли. Я всегда сжигал рукописи. Хотя не делал это так драматически, как Гоголь, но сжег когда-то примерно три тысячи своих стихотворений, считая их плохими. А сейчас иногда жалею. Вспоминаю некоторые строчки и думаю: а ведь было неплохое стихотворение. Но целиком вспомнить не могу.