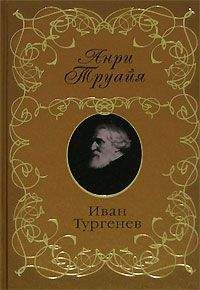На этот раз Толстой посчитал урок достаточным. Впрочем, с недавних пор он чувствовал себя настроенным на христианское благодушие. Перейдя легко с гнева на милость, он ответил своему противнику: «Милостивый Государь, Вы называете в письме своем мой поступок бесчестным, кроме того, Вы лично сказали мне, что вы „дадите мне в рожу“, а я прошу у вас извинения, признаю себя виноватым – и от вызова отказываюсь». Одержав верх, Тургенев написал Фету, чтобы попросить его объявить Толстому, что он тоже отказывается от дуэли. «А теперь – всему этому делу – de profundis[23]», – заключал он. (Письмо от 8 (20) ноября 1861 года.) Фет счел необходимым довести до сведения Толстого слова этого письма. Но тот тем временем вышел из миролюбивого периода. Он ввязал в ссору всех: и седеющего мандарина[24] с хрупкими нервами, который посмел оказывать ему сопротивление, и друзей, которые пытались помирить их. В крайнем раздражении он написал Фету: «Тургенев – подлец, которого надобно бить, что я прошу вас передать ему так же аккуратно, как вы передаете мне его милые изречения, несмотря на мои неоднократные просьбы о нем не говорить. И прошу вас не писать ко мне больше, ибо ваших, так же, как и Тургенева, писем распечатывать не буду».
В течение семнадцати лет Тургенев и Толстой не будут больше ни видеться, ни переписываться. Внимание русской публики привлекало теперь другое имя. Достоевский, вернувшийся из ссылки, с блеском уже опубликовал роман «Униженные и оскорбленные» и повесть «Записки из мертвого дома», о своих страшных испытаниях на сибирской каторге. Кроме того, он издавал журнал «Время». Тургенев пообещал ему выслать в ближайшее время фантастическую повесть «Призраки». Однако работал над ней вяло, всецело поглощенный завершением большого романа «Отцы и дети». Он очень рассчитывал на это произведение, которое, думал он, со всей искренностью выражало его обеспокоенность новой ориентацией молодежи. Он не так давно разорвал отношения с «Современником» из-за постоянных нападок со стороны молодых прогрессивных сотрудников этого журнала и обратился в «Русский вестник» Каткова для публикации «Отцов и детей». Рукопись была отправлена по почте 24 января (5) февраля 1862 года. «Повесть моя отправлена в „Русский вестник“, – писал Тургенев Полонскому, – и, вероятно, явится в февральской книжке. Жду большой брани, но я на этот счет порядочно равнодушен». (Письмо от 24 января – 5 февраля 1862 года.)
В течение всей работы над «Отцами и детьми» он старался быть беспристрастным. Его главной мыслью была мысль о том, что художник ничего не должен доказывать. Показывать, подсказывать, просвещать, но не выносить никаких суждений о характере и поступках своих героев. Тема книги на этот раз была взята из драматической действительности. Речь шла о воспроизведении напряженных отношений между двумя поколениями, которые были разделены пропастью ссор. С одной стороны – дети – жестокие, упрямые, враги существующего строя, уверенные в своей правоте; с другой – стареющие родители, желающие сблизиться со своими сыновьями, своими дочерьми и наталкивающиеся на их отказ, их презрение. Этот старый как мир конфликт стал особенно напряженным в России в шестидесятые годы. Научный материализм уже начал брать верх над мечтательным либерализмом в студенческой среде. Чтобы развить этот идеологический замысел в романе, Тургеневу нужна была модель. Он нашел ее, по его собственному признанию, в августе 1860 года во время пребывания в Вентноре на острове Уайт, где принимал морские ванны. «С своей стороны, я должен сознаться, что никогда не покушался „создавать образ“, если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо. <<…>> Точно то же произошло и с „Отцами и детьми“; в основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. В этом замечательном человеке воплотилось – на мои глаза – то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно; я, на первых порах, сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета – и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая проверить правдивость собственных ощущений». (И.С. Тургенев. «Литературные и житейские воспоминания».)
К этой особенной личности он добавил черты, взятые у молодых писателей, с которыми встречался в Петербурге, и из подобной духовной смеси родил тип холодного бунтаря Базарова. Человек нового времени, Базаров не признает ни религиозных, ни моральных или установленных законом ценностей и склоняется только перед научными доводами. Однако в отличие от Рудина, который не пошел дальше споров по поводу какой-либо теории, он претворяет эту теорию в жизнь. Он презирает комфорт, он циничен, он считает себя недоступным для душевных переживаний. Но именно здесь судьба расставила для него сети. Отрицая реальность любви, презирая нежность, он не может противостоять влечению к женщине. И в конце этой борьбы должен признать, что идеи бессильны перед зовом сердца, зовом крови. Он глупо погибает от заражения крови; родители оплакивают его, не сумев понять.
Чтобы определить философию этого трагического отрицателя, Тургенев ввел слово «нигилизм». «Нигилист – это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, который не принимает ни одного принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип…» «Да, – ответил дядя. – Прежде были гегелисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве; а теперь позвони-ка, пожалуйста, мне пора пить мой какао».
Нигилист Базаров намерен приложить к политике строгие научные методы. Он заявляет, что устал от реформаторских дискуссий отцов. Он пытается упрекать старших в том, что они теряют время на слова, проповедует искусство ради искусства, парламентаризм, дружеское согласие вместо того, чтобы думать о хлебе насущном. Он представляет себя реалистом рядом с вялым поколением мечтателей. Что касается отцов, то рядом с этими одержимыми деятелями они робко возражают против того, что их называют бесполезными и надоедливыми демагогами. «Наша песенка спета», – вздыхают они. Тем не менее сознают, что и они когда-то увлеченно боролись за идеалы справедливости. Они не отрицают своего былого преклонения перед искусством, перед поэзией. Они пытаются несмело передать свои вкусы вновь пришедшим. Однако те отрицают любую литературу, если она недейственна, неангажированна, небоеспособна. Только прямая политика имеет для них цену. Они даже не отрицают идеи использования насилия ради осуществления своих намерений.