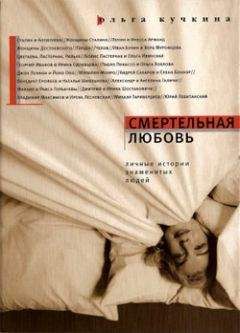Ни происшествие, ни лицо не были забыты никогда. В письме 1956 года Пастернак расскажет адресату о значении для него Райнера Рильке:
«Он сыграл огромную роль в моей жизни, но мне никогда в голову не приходило, что я мог бы осмелиться ему написать, пока по прошествии двадцати лет оказываемого на меня и ему не ведомого влияния я вдруг не узнал (это упомянуто им в его письме моему отцу), что стал известен ему… Только тогда я в первый раз в жизни подумал, что мог бы написать ему».
Строчка из письма отца 17 марта 1926 года:
«…он о тебе, Боря, с восторгом пишет».
Вот что писал Рильке:
«…с разных сторон меня коснулась ранняя слава Вашего сына Бориса. Последнее, что я пробовал читать, находясь в Париже, были его очень хорошие стихи в маленькой антологии, изданной Ильей Эренбургом».
Россия, где живет Пастернак, не имеет отношений с Швейцарией, где живет Рильке. Но есть Франция, где живет Цветаева. Пастернак просит Рильке не отвечать на его письмо («не тратить… драгоценного времени»), а послать свои книжки «Сонеты к Орфею» и «Дуинезские элегии» Цветаевой во Францию. Это будет знак, что письмо получено и прочтено.
Почему Цветаева? Не только потому, что географией можно обмануть политику. И не только потому, что она тоже влюблена в поэзию Рильке.
Для Пастернака этого периода не было поэта выше Цветаевой. Когда ее назвали первым поэтом, он, до невозможности чуткий к слову и к тому, что за словом, выказал решительное несогласие:
«…Ты большой поэт. Это загадочнее, превратнее, больше “первого”. Большой поэт – сердце и субъект поколенья. Первый поэт – объект дивованья журналов…»
И снова:
«Прямо непостижимо, до чего ты большой поэт!»
И в другом месте:
«Как удивительно, что ты – женщина».
Он попал в точку, возможно, даже не зная того. Не знание, но чувство, выше знания, владело им и открывало ему миры.
Женщина до мозга костей, Цветаева как будто и не была женщиной вовсе.
В дневнике 1919 года она пометит:
«Мое требованье – всегда просьба, моя просьба – всегда требованье».
Просила и требовала одного – любви. Но не той и не так, как у обыкновенных людей.
Исследователи составят «дон-жуанский» список Марины:
прежде всего и поверх всего – муж Сергей Эфрон, которого не переставала любить;
Петр Эфрон, брат Сергея («Люблю одной любовью – всей собой – и березку, и вечер, и музыку, и Сережу, и Вас»);
поэт Максимилиан Волошин;
поэт Осип Мандельштам;
поэт Александр Блок (как всегда, безумно преувеличивая, написала о нем Пастернаку: «встретились бы – не умер»).
поэт Евгений Ланн («Как Вы тогда хорошо сказали: лютая эротика, – о, как Вы чуете слово!»);
князь Сергей Волконский («отношение с Волконским нечеловеческое», «любуюсь им отрешенно»);
Константин Родзевич, герой «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» («Люблю Ваши глаза… Люблю Ваши руки… Вы – мое спасение и от смерти и от жизни, Вы – Жизнь (Господи, прости меня за это счастье!)»);
27-летний поэт и издатель Абрам Вишняк (из своих девяти писем к нему и единственного ответного сделала «цельную вещь, написанную жизнью» – «Флорентийские ночи»);
поэт Юрий Иваск («Спасибо Вам за все: совместный холод – которого я не замечала; совместное стояние у темных окон; …за подаренный карандаш…»);
поэт Николай Гронский, трагически погибший в парижском метро («Мой родной мальчик!.. Мы за последние те дни так сроднились, не знаю как»);
поэт Анатолий Штейгер («Обнимаю Вас, моя радость (и боль)»);
поэт Арсений Тарковский;
и еще, и еще.
Как видим, поэты – армия ее любовников, чаще по духу, гораздо реже телесно. Если не считать двух Сонечек – поэтессы Парнок и актрисы Голлидэй. Поэты – потому что люди вне нормы. Норма отвращала. С малых лет – преувеличенность и безмерность во всем. Огромность чувств. Желание отдать себя всю и забрать всего его или ее, в конце концов, без разницы, каждого, кто показался своим. Почти всех пугала ее запредельность. До или после. Она догадалась еще в 1919-м:
«Я, конечно, кончу самоубийством, ибо все мое желание любви – желание смерти».
В этом списке – поэт Борис Пастернак и поэт Райнер Мариа Рильке.
* * *
Летом 1922 года Марина Цветаева сказала сестре Асе: «есть только один человек в России, один поэт… он и его стихи – замечательны, и он их прекрасно читает. Лицом он похож на Пушкина, ростом – выше… Это Борис Пастернак».
Сказала и уехала к мужу в Чехию.
Через год Пастернак, вернувшийся из Берлина, зайдет и занесет Асе томик стихов «Ремесло» – Марина переслала ему из Чехии для сестры. В сером пальто, сером кепи, из тускло-серебряного одеяния и из-под темно-каштанового оперения на Асю глянут светло-каштановые глаза, с собачьим, по ее словам, выражением преданности. Обласкивая, вглатывая, познавая. «Понимаю, – сказала себе Ася, – проверяет сходство с Мариной».
Другая мемуаристка вспомнит глаза Пастернака незадолго до смерти: «подернутые лиловой пленкой, как бывает у очень старых людей и старых собак». То же сравнение с собачьими глазами.
Пока же июнь 22-го. Цветаева, не доехав до Чехии, останавливается в Берлине, где Эренбург передает ей письмо из Москвы. Беглый просмотр, не знает, от кого, все ненужное. И вдруг, к концу второй страницы, как удар: Пастернак!
«Я дала Вашему письму остыть в себе…»
Почти неправда. Даже и остывшее, вызывает жар. Она садится к столу, и как нанизывают связку драгоценных бусин, так перебирает на бумаге эпизоды с ним, еще до всего.
Весна 18-го, ужин у знакомых, они рядом. Он сказал, что хочет написать большой роман о любви, как Бальзак. Она подумала: как хорошо, как вне самолюбия – поэт. Пригласила: буду рада – если. Он не пришел.
Зима 19-го, встреча на Моховой. Пастернак несет продавать Соловьева, говорит: в доме нет хлеба. Выстроила чудный ряд: книги–хлеб–человек.
Осень 21-го. Он приходит к ней в Борисоглебский переулок с письмом от Эренбурга. Она, заглушая радость встречи, торопится с расспросами. Он отвечает как-то темно. Она про себя: косноязычие большого.
Она первая именует его большим. Он поименует ее так – в ответ.
Апрель 22-го. Похороны ее подруги. И вдруг рука на рукав – как лапа: Пастернак. Несколько случайных слов – об Ахматовой, Маяковском: она все запомнила. О ней, Цветаевой, тоже. Выслушала – просияла внутри. Стояли у могилы, руки на рукаве уже не было, но чувство – что он рядом, отступив на шаг. Оглянулась – нет. Исчезновение.
Этот захлебывающийся пересказ их истории, которой еще нет, – что, как не готовность к любви?
Любовь обрушится на них как лавина. Ему 32, ей 30. Для нее – пик сразу, в 1922-м. Для него пик придется на 1926-й.
Он приедет в Берлин в конце 1922-го, когда она уже переберется в Чехию. Впрочем, он все равно не один, а с художницей Женей, на которой женился в начале года. Но разве ее когда-нибудь останавливало наличие жены или мужа, пусть самых достойных?