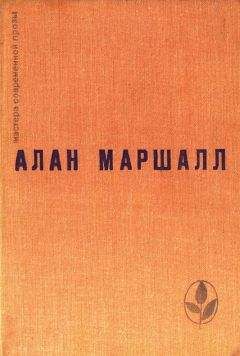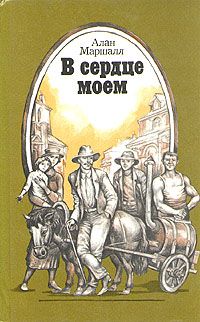на нем, волос колол меня через штаны), и сказал:
— В мешке резки, который я купил на днях у Симмонса, полно овса. Давно мне не попадалось такого удачного мешка. Он говорит, что это солома старого Пэдди О'Лофлэна. — Отец улыбнулся мне, — Как тебе нравится дома, старина?
— Ох, хорошо, — сказал я.
— Еще бы, — подтвердил отец. Он стал стаскивать свои «эластичные» сапоги, и на лице его появилась гримаса. — Немного погодя я покатаю тебя по двору и покажу щенят Мэг.
— Почему бы тебе не купить еще резки, пока ее всю не распродали? — Предложила мать.
— Я так и думаю сделать. Скажу, чтобы Симмонс оставил ее за мной: овес Пэдди — с коротким стеблем, кустистый.
— Когда мне можно будет снова походить на костылях? — спросил я.
Мать напомнила:
— Алан, доктор сказал, что ты должен ежедневно лежать по часу.
— Нелегкое это будет дело, — проворчал отец, разглядывая подошвы своих сапог.
— Ничего не поделаешь.
— Это верно. Не забывай, Алан, каждый день ты должен немного лежать. Но и на костылях ты сможешь ходить ежедневно. Я сделаю на ручках обивку из конского волоса. Ведь сейчас тебе от них больно под мышками?
— Больно.
Держа перед собой сапог, отец быстро посмотрел на меня: во взгляде его была озабоченность.
— Пододвинь свое кресло к столу, — сказала ему мать.
Она подкатила мою коляску поближе к отцу, выпрямилась и улыбнулась.
— Что ж, — сказала она, — сейчас у нас снова в доме двое мужчин, и мне уже не придется так много работать как раньше.
После обеда отец повез меня в моей коляске по двору. Когда он подкатил ее к клетке Пэта, я с беспокойством подумал, что пол ее нечищен и что надо им заняться; потом я посмотрел на Пэта: старый какаду сидел нахохлившись на своей жердочке и пощелкивал клювом — я хорошо знал этот звук. Я просунул сквозь сетку палец и почесал его опущенную головку; на пальце осталась белая пыльца от перьев, и я ощутил запах попугая, неизменно напоминавший мне о малиновых крыльях, мелькающих в зарослях. Пэт осторожно захватил мой палец своим крепким клювом, и я почувствовал быстрые, упругие прикосновения сухого, словно резинового язычка.
— Эй, Пэт, — сказал он моим голосом.
Королевский попугай в соседней клетке все еще прыгал взад и вперед на своем шестке, но Том — мой опоссум — уже спал. Отец вытащил его из маленького темного ящика, в котором спал зверек; Том открыл свои большие спокойные глаза, посмотрел на меня и снова свернулся калачиком на ладонях моего отца.
Мы направились к конюшне, откуда доносилось фырканье лошадей, которым в ноздри набилась сечка, и громкие удары копыт по неровному каменному полу.
Нашей конюшне было не меньше шестидесяти лет, и казалось, что она вот-вот рухнет под тяжестью своей соломенной крыши. Она наклонилась набок, несмотря на то что была подперта стволами кряжистых эвкалиптов с развилиной наверху, на которых покоились балки крыши. Стены были сделаны из горбылей, изготовленных из спиленных по соседству деревьев, и сквозь щели между ними можно было заглянуть в темное помещение, где сильно пахло конским навозом и соломой, пропитанной мочой.
Привязанные веревками к железным кольцам в стене, лошади склонялись над кормушками, которые были выдолблены из целых бревен и обтесаны топором.
Рядом с конюшней, под той же тяжелой соломенной кровлей, в которой с гомоном и криком строили гнезда воробьи, находился сарай для хранения корма; грубый дощатый пол был усеян просыпанными зернами и сечкой. В соседнем помещении хранилась сбруя: на деревянных крючках, прибитых к горбылям, висели хомуты, дуги, вожжи, уздечки, седла. На особом колышке висело специальное седло, которым отец пользовался, объезжая лошадей; начищенные воском покрышки потника блестели и сверкали.
На полу у стены, на тесаном бревне, поддерживавшем горбыли, были расставлены банки со смазочным маслом, бутылки со скипидаром, «раствором Соломона» и различными лекарствами для лошадей. Специальные полочки предназначались для щеток и скребниц; рядом с ними на гвоздях висели два кнута.
Все под той же соломенной крышей помещался и каретный сарай, где стояли трехместная бричка и дрожки. Дрожки были приставлены к стене, и длинные, сделанные из орехового дерева оглобли, пропущенные через стрехи, торчали над крышей.
Задняя дверь конюшни вела на конский двор — круглую площадку, огороженную грубо отесанными семифутовыми столбами и брусьями. Ограда была сделана наклонно — с таким расчетом, чтобы брыкающаяся лошадь не могла раздробить о брусья ноги моего отца или ударить его о столб. Перед конским двором рос старый красный эвкалипт. В пору цветения стаи попугайчиков клевали его цветы, порой они висели на ветках головой вниз, а если их вспугивали, начинали кружиться над деревом, оглашая воздух пронзительными криками. У его ствола были свалены сломанные колеса, заржавленные оси, рессоры, негодные хомуты, пострадавшие от непогоды сиденья экипажей. Из порванных подушек торчал серый конский волос. Между могучими корнями валялась целая груда старых заржавленных подков.
В углу двора росло несколько акаций, и земля под ними была густо усыпана конским навозом. Тут в жаркие дни располагались в тени лошади, которых объезжал отец. Они стояли, опустив головы, отставив заднюю ногу, и отгоняли хвостом мух, привлеченных запахом навоза.
Неподалеку от акаций была калитка, выходившая на покрытую грязью дорогу, за которой еще сохранился небольшой участок зарослей, служивших убежищем для нескольких кенгуру, упрямо не желавших отступить в менее населенные места. В тени деревьев укрылось небольшое болотце, где водились черные утки и откуда в тихие ночи доносился крик выпи.
— Водяной сегодня разгулялся, — говорил отец, но меня эти звуки пугали.
Лавка, склад, почта и школа находились примерно в миле от нас — на дороге, где на расчищенных участках расположились богатые молочные фермы, принадлежавшие миссис Карузерс.
Над поселком возвышался большой холм — гора Туралла. Он густо оброс кустарником и папоротниками, а на вершине его находился старый кратер, в который детвора скатывала большие камни; они катились, подпрыгивая и ломая папоротники, пока где-то далеко внизу не достигали дна.
Мой отец не раз взбирался верхом на гору Туралла. Он говорил, что лошади, объезженные на склонах горы, крепче держатся на ногах и стоят на несколько фунтов дороже, чем лошади, объезженные на равнине.
Я поверил этому твердо и непоколебимо. Все, что отец говорил о лошадях, запечатлевалось в моем сознании и становилось такой же неотъемлемой частью моего существа, как мое имя.
Подкатывая мою коляску к конюшне, отец рассказывал мне:
— Сейчас я объезжаю жеребчика, который здорово белки показывает. А уж если лошадь показывает белки, так, значит, любит лягаться, да так, что и у комара,