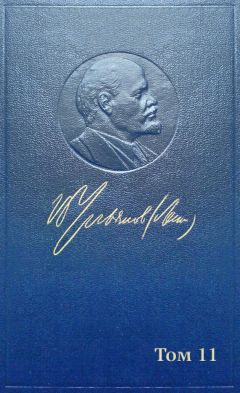Режиссер засмеялся генеральским басовым смехом, от которого затряслось его обширное чрево.
— Где же он теперь? Не разыскали еще? — спросил он, несколько смягченный рассказом о приключении с Костовским.
— Здесь. Вытрезвляется в костюмерной. Искали его, искали и, наконец, настигли голубчика в кабаке, в самый разгар драки с какими-то мастеровыми, не дали кончить драку и багажом доставили сюда. Под глазом у него теперь вот такой фонарь.
— Позовите-ка его сюда, пьяницу.
Молодой человек суетливо побежал через сцену и скрылся за кулисами. В пустом театре гулко разносился его взывающий тонкий голос:
— Костовский! Костовский!
Вскоре он вернулся к режиссеру, подмигивая и как бы желая сказать: сейчас начнется комедия!
— Сейчас придет: стыдно ему, мнется.
Послышались медленные, неровные шаги, и на сцену вышел человек, который возбудил столько негодования и не был принят морем.
Это был человек среднего роста, сильного телосложения, жилистый и мускулистый, несколько сутуловатый. Одевался Костовский в синюю блузу, испачканную красками и подпоясанную широким ремнем. Грязные, замасленные брюки заправлял в высокие сапоги. Костовский имел вид обыкновенного рабочего. Руки у него были очень длинные, как у гориллы, жилистые и, должно быть, очень сильные. Сила чувствовалась даже в его некрасивом, но характерном лице с развитыми скулами и большими рыжеватыми усами, свешенными вниз. Из-под сдвинутых бровей мрачно и вместе с тем добродушно смотрели голубые глаза. Особенностью этого лица являлось еще выражение стремительности и необыкновенной энергии. Под левым глазом красовался огромный синяк — след искусного удара. Жесткие светлые волосы его торчали во все стороны непокорными, злыми вихрами, и весь Костовский производил впечатление существа размашистого и неукротимого.
Он застенчиво и вместе с тем гордо поклонился, никому не подавая руки.
— Что же это вы делаете, Костовский? А? — холодно обратился к нему режиссер. — Пьеса назначена на завтра, а придется ее отменить! Зачем вы мне пакостите, скажите, пожалуйста? Честно ли это с вашей стороны? Зачем вы пьянствуете? Вон какое у вас под глазом украшение! Стыдитесь!
Костовский попятился, запустил в свои вихры огромные пятерни и вдруг весь загорелся страстным, неукротимым чувством.
— Марк Лукич! — воскликнул он хриплым, глухим, но проникновенным голосом. — Я пил! Но теперь — баста! Я сделаю все, что нужно! Сегодня суббота, спектакля нет, я не выйду отсюда до завтра! Я всю ночь буду работать! Я! Я… Ах ты, бо-жже мой!
Костовский потряс в воздухе руками и, казалось, весь был охвачен отчаянной энергией. Он жаждал работы, как искупления.
— Да ведь вы понимаете ли, что нужно сделать?
— Нужно написать новую декорацию во всю сцену. И написать хорошо! Понимаете ли? Х-хар-рашо написать!
— О, я напишу! Я напишу! — воскликнул Костовский, воодушевляясь и запуская в жесткие вихры все десять пальцев. Он, забывшись, прошелся по сцене и остановился против режиссера.
— Расскажите мне суть, какая должна быть декорация, для чего она? — спросил он более спокойно.
— Видите ли, это будет второй акт. Двое заблудились ночью в степи. Место должно быть дикое, глухое. На них нападает страх. Тут происходят сверхъестественные вещи. Вот вы и напишите такую степь, чтобы было все: и даль, и мгла, и тучи, и чтобы публике жутко делалось…
— Довольно! — прервал Костовский. — Я напишу вам степь. Я буду работать ночью, при лампах, на сцене. Завтра все будет готово. Материал есть?
— Все есть, только работайте! — вставил свое слово поверенный.
Но Костовский уже почувствовал декораторское вдохновение. Он отвернулся от своих начальников, не слушая, не видя их, позабыв о них. Он встал посреди сцены и, теребя свои вихры, закричал мощным, повелительным голосом:
— Гей, Павел, сюда! Ванька, беги ко мне, живо. Поворачивайтесь, чертовы дети, Костовский работает!
Театральный рабочий Павел и подмастерье Ванька, личность юркая и чумазая, страстно преданная сцене, засуетились, расстилая громадное полотно, притаскивая кисти и краски.
— Ну, — сказал поверенный режиссеру, — слава богу, образумился, пьесу теперь не придется отменять! Пойдемте обедать, ему теперь не надо мешать.
Они ушли.
Сцена всю ночь была ярко освещена. В пустом театре было тихо, как в могиле. Только раздавались иногда шаги Костовского, когда он, с длинной кистью в руке, то подходил к полотну, то отходил от него. Кругом стояли ведра и горшки с красками…
Работа кипела у Костовского. С подбитым глазом, весь перепачканный в красках, с торчащими вихрами и усами, он совершал своей огромной кистью какую-то титаническую работу. Глаза его горели. Все лицо его было вдохновенно.
Он творил.
Утром в одиннадцать часов вся труппа, собравшись на репетицию, стояла толпой перед произведением Костовского. Артисты, хористы, хористки и балерины смотрели на громадную декорацию то со сцены, то из партера и высказывали свои мнения. В глубине сцены, во всю ее ширину, висела гигантская картина.
Это была степь.
На первом плане она заросла густым и высоким бурьяном, репейником и перекати-поле. Дальше виднелась печальная степная могила, густо поросшая травой, а потом уже и развернулась безотрадная, глухая степь с бесконечной, удивительной далью, степь сказочная, богатырская, бездорожная, безлюдная… Казалось, что вот-вот из-за могильного кургана покажется Илья-Муромец и гаркнет:
— Есть ли в поле жив человек?
Но молчит угрюмая степь, грозно и мрачно молчит, а на горизонте вырезаются могильные курганы и ползут косматые, зловещие тучи. И нет конца этим тучам и могилам, и бесконечна эта страшная степная даль…
От всей картины веяло мрачным настроением. Оно давило душу. Казалось, что вот-вот произойдет здесь что-то страшное, что могилы и тучи имеют какое-то символическое значение, что они как будто живые… Правда, на близком расстоянии в декорации Костовского ничего нельзя было разобрать: какая-то грубая мазня и ляпня огромной кистью, широкие мазки, спешные штрихи и больше ничего.
Но чем дальше отходили от нее зрители, тем все яснее и яснее выступала картина громадной степи, одухотворенной могучим настроением. И чем пристальнее смотрели на нее все, тем все более и более поддавались ощущению жуткости.
— Ай да Костовский! — гудела вся группа. — Молодчина! Талант! Этакую чертовщину напустил!
— Что ж! — наивно отвечал он. — Мы народ мастеровой: работать — так работать, гулять — так уж гулять! Мы этак!
Все смеялись над ним, говорили о нем целый день: никогда еще он не писал так удачно.