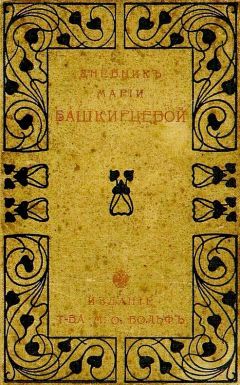Ошеломленная, я спрашивала себя, как следует понимать подобное заявление. Но Лантельм была особой очень прямой и не замедлила поставить все точки над «i». Она вернет Альфреда, но с тремя условиями: ей нужно жемчужное ожерелье, которое было у меня на шее, миллион франков и… я сама. Кроме третьего условия, какое я отказывалась принимать всерьез, я готова была заплатить ее цену. Сняла свои жемчуга и положила на стол. «Дайте мне несколько дней, чтобы собрать миллион. Его нет, разумеется, при мне, но вам не придется долго ждать».
Я покинула улицу Фортюни озадаченная: можно ли уже торжествовать победу? Я была так шокирована ее бесстыдством, что захотела немедленно принять ванну. Поехала в «Отель дю Рейн», в котором оставила за собой апартаменты, где мы жили до особняка на улице де Риволи и где мне нравилось время от времени уединяться. Не прошло и получаса, как я увидела подъехавший с улицы де ла Пэ большой красный автомобиль. Шофер принес мне пакет и письмо. В пакете были жемчуга. В письме на фиолетовой бумаге Лантельм писала, что, как следует подумав, она отказывается от жемчуга и миллиона, но настаивает на третьем условии…
На другой день Альфред пришел завтракать на улицу де Риволи в превосходном настроении. Я не знала, что сказать и что делать.
Спустя несколько дней у нас обедало множество друзей. Слуга что-то шепнул на ухо Эдвардсу: он забыл, что очень важный политический деятель будет сегодня вечером на улице Фортюни и настойчиво просит его прийти туда. Он ушел и не вернулся.
Я чувствовала себя совершенно потерянной, проводила целые дни, запершись в своей комнате, и плакала, плакала.
Время от времени появлялся Альфред, заверял в своей любви, бушевал, стонал, награждал Лантельм мерзкими эпитетами… и возвращался к ней.
Однажды вечером после театра он позвонил, чтобы спросить мою горничную, не забыла ли я убрать и запереть бриллианты. Меня охватила такая ярость, что я схватила картонку для шляп, бросила туда как попало все драгоценности, добавив все, что подвернулось под руку, — коробочки и другие предметы из золота, — и приказала немедленно отвезти картонку Лантельм.
На другой день Эдвардс устроил мне отвратительную сцену. Спрашивал, не сошла ли я с ума, послав фамильные драгоценности подобной женщине. На этот раз она их не вернула…
Занимаясь своей профессией, Лантельм не могла накопить такие сокровища за целую жизнь. Это ударило ей в голову. Действительно, несколько недель спустя она явилась в мое отсутствие на яхту и попросила проводить ее в ванную комнату, чтобы «привести себя в порядок». Оказавшись там, не теряя ни секунды, она сунула в сумку роскошный золотой туалетный прибор, который я всегда оставляла в нашем плавучем доме. Она уже не видела никакого резона в том, чтобы не присвоить решительно все. С этого момента моей ноги не было на яхте, которую я так любила.
Однако, прежде чем все окончательно рухнуло, к Эдвардсу еще один раз внезапно вернулась ясность ума. После особенно унизительной сцены с Лантельм он порвал с ней — окончательно, говорил он, — и, казалось, понемногу выздоравливал от этой позорной одержимости. Увы! Это длилось не более двух недель. Какую новую стратегию изобрела она, чтобы вернуть его? Как бы то ни было, однажды вечером я нашла в своей спальне патетическую записку, в которой Альфред писал, что обожает меня, что он проклят судьбой… и ушел жить к ней[176].
Я, разбитая, истерзанная, полная отвращения, поехала на несколько дней в Италию повидаться с друзьями. Никогда еще после расставания с Таде я не чувствовала себя такой растерянной. По злой иронии судьбы в Риме в «Гранд Отеле» дирекция пожаловала меня номером с огромной кроватью, сверх меры украшенной амурами и купидонами. Как-то вечером я почувствовала себя до такой степени одинокой, безутешной и крошечной в этой громадной кровати, созданной для любви, окруженная этими глупыми купидонами с их стрелами и улыбками, насмехающимися надо мной, что внезапно и неудержимо, как приступом тошноты, мною овладело возмущение. Я накинула пеньюар, открыла дверь и остановилась на пороге, поклявшись, что приглашу первого же мужчину, который появится в коридоре, разделить мое одиночество, мою постель и улыбки купидонов.
Единственный раз в жизни подобная идея родилась у меня. Один бог знает, что произошло, если бы за эти добрые четверть часа ожидания того, кому решила отдаться, — дрожа от страха, холода, волнения и негодования, — я увидела кого-нибудь другого, а не ночного портье[177]…
Усталость взяла свое, я заснула на подушке, мокрой от слез, под взглядом верного легиона маленьких амуров, охраняемая их луками. Утром я уехала в Париж. Положение не изменилось. Альфред, полубезумный, оставался в сетях дамы, которой так нравились мои драгоценности.
Я не могла больше выносить этого существования, полного драм и бурь. От горя у меня началось нервное истощение. Надо было покончить с этим невозможным, невыносимым положением. Я была погружена в горькие раздумья, когда доложили, что пришел Форен. Он привел с собой молодого испанского художника, с которым хотел меня познакомить. Художника звали Хосе-Мариа Серт.
Хосе-Мариа Серт — Путешествие по Италии — «Борис Годунов» в «Опера» — Знакомство с Дягилевым
Я слышала имя Серта, так как видела на выставке серию огромных панно, сделанных им для собора в Виче и о которых в Париже уже много говорили. Несмотря на то что он оставил в передней сомбреро и испанский плащ, самые причудливые атрибуты своего одеяния, меня поразил облик этого молодого человека — стремительного, учтивого, ни на кого не похожего. Его речь была так же неожиданна, как и внешность. Испанский акцент придавал особую пряность его французскому, которым Серт пользовался с большим мастерством, рассказывая самые несуразные истории. Не прошло и десяти минут, а он уже объяснял, как аист умрет от голода перед грудой еды, если ему отпилить часть клюва, чтобы он совершенно потерял ощущение расстояния, и как он, Серт, веселился, глядя на смятение и панику уток, перекрашенных им в морских выдр, при виде выдр, одетых в перья! И тут же без всякого перехода последовал рассказ о его путешествии по Калабрии верхом на лошади, которой, чтобы утолить ее голод во время неурожая, он пожертвовал свою соломенную шляпу. Все это было сказано самым серьезным тоном, с искоркой во взгляде, опровергающей слова. Говоря, Серт расставлял знаки препинания такими красноречивыми жестами, что я не могла оторвать глаз от его рук. Пальцы Серта были живыми, упорными, сладострастными, жестокими, пытливыми, ласкающими и властными. Пальцы художника и завоевателя.