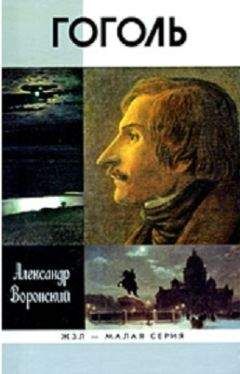Домой мы с Валентином возвратились голодные, иззябшие. Валентин спросил меня тревожно:
— А может быть, с подпольной жизнью придётся покончить?
Я вспомнил знамёна, толпы народа, митинги, но тут же в памяти встал человек с едким лицом на университетском балконе.
— Сомнительно.
— Мне тоже кажется — сомнительно.
Утром на другой день мы сели на пароходик, чтобы попасть в университет. Мы сошли с парохода, рысью к нам подъехал наряд конных городовых.
— Нельзя, садитесь обратно. Не разговаривать!..
Мы слезли у Троицкого моста, направились к Невскому. Повсюду усиленно разъезжали казаки, конные полицейские. Пешеходы жались к стенам.
Станислав сказал Валентину, что обучение типографскому делу он может временно приостановить. Я тоже добился у него освобождения от обязанности ходить по «адресам». Мы решили сделаться агитаторами. Нам разрешили выступать на фабриках и заводах под руководством и наблюдением старших и более опытных товарищей. Каждый день мы приходили в районный комитет и просили «куда-нибудь направить». Чаще всего нас «направляли», когда кто-нибудь из известных агитаторов не являлся вовремя в район либо когда их не хватало. Валентин составил речь, он произносил её по очереди на всех рабочих собраниях, куда его посылали. Речь его начиналась так: «Товарищи рабочие! На наших глазах рушится самодержавный строй, основанный на темноте и бесправии народном. В этой великой борьбе главное участие принимает рабочий класс. Чего же он хочет?» Дальше подробно и жарко излагалось рабочим, чего они хотят. Хотели же они до того много, что Валентин еле-еле успевал рассказать об этом в течение получаса, и то только потому, что председатель собрания нередко ему шептал: «Ваше время, товарищ, истекло, кончайте». Речь свою Валентин произносил залпом, без передышки, сильно жестикулируя руками. Рабочие обычно соглашались с тем, чего они хотят по мысли Валентина.
Следуя его примеру, я тоже составил коронную речь. В ней то и дело упоминались наглые грабители, кровопийцы, тираны, царские приспешники, узурпаторы, эксплуататоры, держиморды, экспроприаторы, которых экспроприируют; за сим следовали литературные сравнения: Угрюм-Бурчеевы, Иудушки Головлевы, чумазые, безмолвствующий народ, господа ташкентцы. В заключение же я неизменно рассказывал о некоем колоколе. Я вычитал из газет, что крестьяне одного села для помещичьих погромов и сборищ привыкли пользоваться церковным колоколом. Тогда власти обрезали верёвку. Вот этот-то колокол — не помню уж, по какому случаю и в какой связи — я и заставлял постоянно звонить. Помимо колокола с обрезанной верёвкой, в запасе у меня был анекдот о том, как следует истреблять клопов: купить персидский порошок, поймать клопа и посыпать его оным порошком. Анекдот казался мне чрезвычайно остроумным; рассказывая его, я приятно и знаменательно улыбался, преподносил же я его слушателям для посрамления постепеновцев-меньшевиков. Словом, уже тогда я обнаруживал несомненные наклонности к образному мышлению и любил яркие художественные сравнения. Рабочие же, слушавшие меня, благодушно сносили мой колокол, и мой анекдот о клопах.
Идеалом нашим, героем в наших помыслах был «товарищ Абрам», ныне главный прокурор республики товарищ Крыленко. «Товарища Абрама» знал весь Петербург и, в особенности, фабричные районы. Кажется, не было ни одной фабрики, ни одного завода, ни одного крупного митинга или собрания, где бы он ни выступал с речами. Он громил кадетов, социалистов-революционеров, меньшевиков. Язык его не знал устали и работал подобно пулемету. Студент-первокурсник, он был нашим сверстником, и его слава и успехи не давали нам покоя. Не раз на явочных для агитаторов квартирах нашего, Василеостровского, района я с завистью, с уважением и преклонением смотрел на его маленькую, крепко сбитую фигуру, на прямую и самоуверенную линию ото лба к носу. Он сорвал себе уже голос, он временами говорил шёпотом, около него увивались самоотверженные девицы — его упрашивали, а он отвечал надсадно: «Нет, не могу, что хотите делайте со мной!» У меня же ни разу не срывался голос, я не имел права сделать этот великолепный жест рукой у горла, словно оно перерезано, около меня не было даже и одной самоотверженной девицы, и, главное, меня не упрашивали выступить «хотя бы на десять минут». Ничего подобного со мной не случалось. Мне говорили иначе: «Пожалуй, с товарищем Петром вас можно направить». Революционное честолюбие! Не так-то легко избавиться от него, особенно, если вам двадцать лет и так хочется греметь народным трибуном, грозно обличать и «потрясать сердца» масс и… хорошеньких девушек. Мой бедный колокол и мои незадачливые клопы! Куда вам было до именитого и достославного «товарища Абрама»!
…Поручения выполнялись нами ревностно. Очень часто приходилось ночевать в районных помещениях, не раздеваясь, где попало, чтобы поспеть к утренней смене, проскочить в заводские ворота с чужой бляхой, а иногда и без неё. Расстояния были непомерные, мы выбивались из сил, но наряды выполняли точно. Пишу об этом с гордостью, так как исполнительных работников насчитывалось немного. В агитационном коллективе числилось в те дни человек пятьдесят — шестьдесят. Большинство состояло из студентов, курсисток; попадались уволенные гимназисты, семинаристы. Все они охотно посещали районные явочные квартиры, ещё более охотно принимали участие в широких и в узких партийных собраниях, особенно в дискуссионных, но куда меньше было охотников вставать в четыре-пять часов утра, тащиться по пустынным, угрюмым, неосвещённым улицам, зябко жаться и запахиваться в пальто, отогревать коченеющие пальцы, изловчаться в воротах, скрываться после митинга на заводе от полиции, ждать иногда обеденного перерыва, чтобы благополучно выйти за ворота. Ядро агитаторов, настоящих и постоянно работающих, состояло из десяти — пятнадцати человек.
Мы не испытывали недостатка в весёлых и забавных случаях, в разнообразных историях, в опасных и рискованных приключениях.
Помню такой случай. Я витийствовал на открытом летучем митинге, забравшись на площадку товарного вагона. Внизу предо мной стояла толпа железнодорожников. Я самозабвенно предвещал «час мести и расплаты», убеждал вдохновенно «не поддаваться провокации», «стоять до конца», неистовствовал в призывах и не скупился на лозунги, но в припадке революционного пафоса я не заметил, как вагон лязгнул, толкнулся с места, и на глазах удивлённых рабочих я поплыл сначала тихо, потом быстрей — вперёд и дальше, размахивая руками и бросая пламенные слова. Вагон входил в состав поезда, которому приспело время двигаться как раз в момент моего высшего ораторского подъёма. Я догадался соскочить, когда ход поезда сделался угрожающим. Рабочие шутили и смеялись. Весь драматизм и вся моя лирика пропали даром.