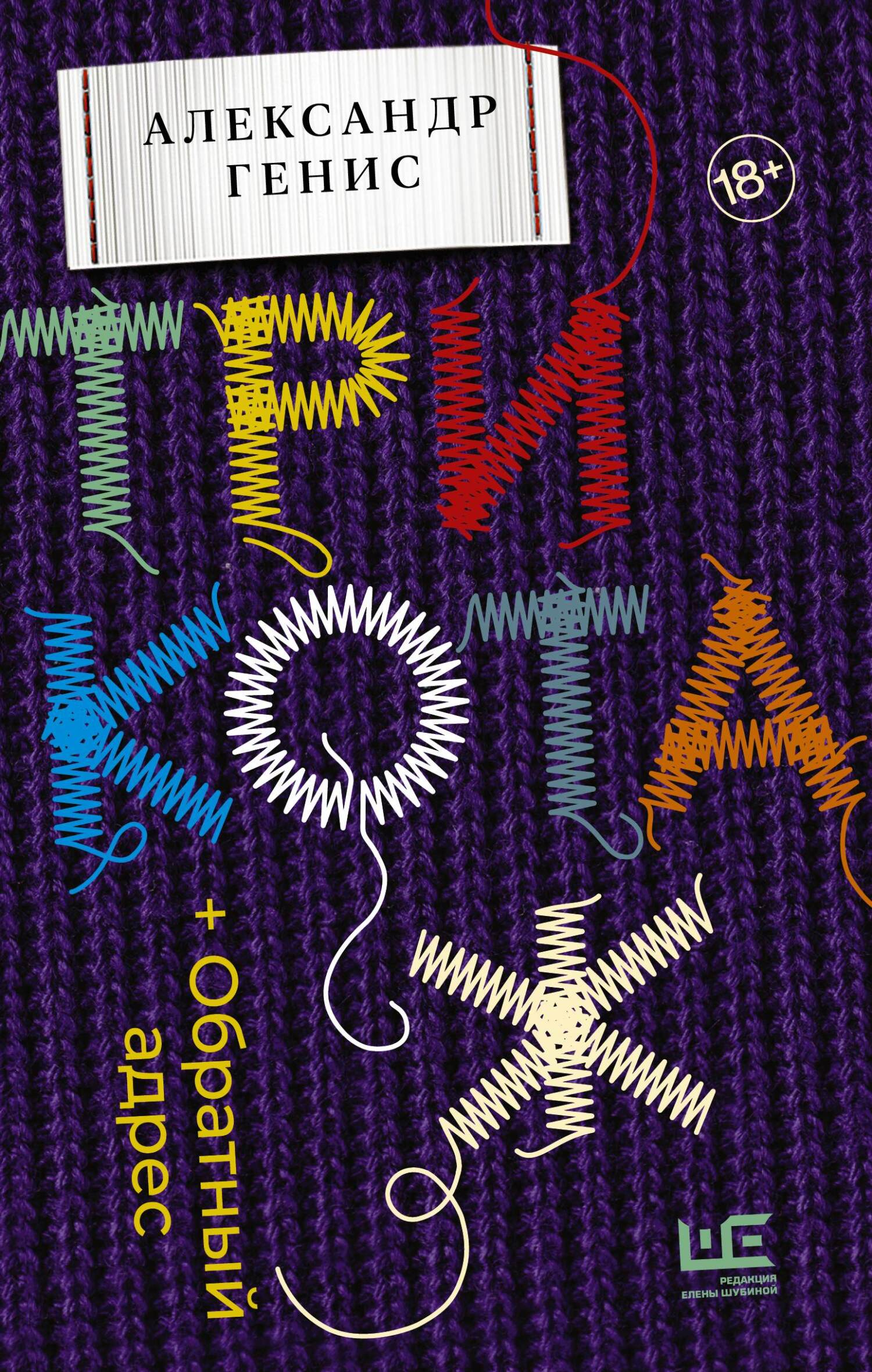замкнувшийся еще во времена первого Храма.
Другими словами, русская жена была катастрофой для семьи. Явление мамы произвело землетрясение, спутавшее контурную карту еврейской жизни. Но обратного пути уже не было – мама была беременна моим братом. Не в силах сделать из мамы еврейку, три сестры выбрали паллиатив, научив ее готовить (и как!) фаршированную рыбу. Так маме нашли нишу попутчика в сложном и витиеватом еврейском мире, где каждый знал свое место, хотя и претендовал на чужое.
В Киеве строгая сословная спесь отделяла евреев с Подола от тех, что с Евбаза. В табели о рангах семья балагула стояла ниже дочери портного, знавшего русское слово “мадам”. Это выяснилось, когда засидевшуюся в девках тетю Сарру удалось выдать за дядю Колю. Мало того, что он был с Подола, – он еще и пил, вливая целую бутылку “Шартреза” в прямое горло.
На их свадьбе был Каганович. Точнее – его брат, оказавшийся то ли родней, то ли соседом жениха. На праздник он пришел с телохранителем. Поэтому первый тост был за Сталина, второй – тоже. Когда кричали “горько”, гости смотрели на Кагановича, который в ответ кивал и улыбался. Несмотря на мезальянс, брак удался. Сарра любила мужа и сошла с ума, когда он умер.
Но задолго до этого я жил у них в гостях. К тому времени Евбаз уже окончательно превратился в площадь Победы с одноименным кинотеатром. Цирк наконец достроили, а евреев расселили в новостройки. Дяде Коле и тете Сарре досталась отдельная квартира, состоящая из одной по-прежнему маленькой комнаты. С шести утра до полуночи в ней пел и рассказывал репродуктор. Сперва мне это мешало, но вскоре я привык жить с черным громкоговорителем, никогда не оставлявшим нас наедине с лишними мыслями.
Попав в новую среду, старики забыли дорогу к Евбазу и никогда туда не возвращались. Оставшись без тех немногих дел, которые у них были, они сидели во дворе на скамейке, заговаривая с каждым, кто оказывался в пределах слуха. Хотя я не пропускал ни слова, мне не восстановить эту бесконечную, исчерпавшую их старость беседу. Они обсуждали услышанное из репродуктора, ловко выбирая лишь то, что касалось евреев: Хрущев, ООН, Насер, Израиль. Еврейская тема была настолько захватывающей, что сюжет становился лишним. Их речь, свободная и бессмысленная, текла, как река в равнинной местности. Но на воду, как известно, смотреть всегда интересно, и, слушая взрослых, я постигал риторику от обратного.
2. Луганск, или Тени забытых предков
1
Задолго до того, как у меня появились деньги, я научился обходиться без них, путешествуя на попутных машинах по всей стране – от Белого моря до Черного, от Волги до Карпат, от весны до осени.
Уйдя в народ, я не нашел в нем ничего плохого. Все, кто сажал меня в кузов или кабину, были добры и приветливы. Другие, надо полагать, не останавливались, и их можно понять. В те годы я походил на химеру. Юная борода упиралась в небо, нос загибался клювом, ветер раздувал вороную гриву, копыта и хвост скрывала плащ-палатка. Завидев меня в сумерках, бабки крестились. Но и они угощали своим, а не купленным, хлебом и парным, отдающим домашним зверем, молоком, как это случилось в степи, где мы с братом заночевали в палатке, свернув с шоссе Харьков – Ростов.
Впервые попав в степь, знакомую исключительно по Гоголю и Чехову, я оробел от упраздняющего смысл простора и пронзительно горького запаха трав. Судя по карте, всего в 20 километрах стоял Луганск, но мы не решились в него заехать – он был городом ненашего детства. Привыкнув к нему, как к сказкам, мы боялись его не узнать, не понять и не принять.
Мама Луганск не выносила, но ее мать, а моя бабушка Анна Григорьевна, не могла без него обойтись и каждое лето отправлялась восвояси, чтобы пожить по-человечески, а не так, как в Риге. С трудом научившись писать, невзирая на грамматику, она каждую неделю отправляла по толстому письму родне, мучаясь, как вся страна, с адресом. Ее город дважды переименовали в Ворошиловград, и дважды он вновь становился Луганском. Бабушке было все равно. Политику она до поры до времени не понимала, а понятие “национальность” исчерпывалось смутной категорией “наших”, исключавшей, как это выяснилось в Риге, латышей и включавшей всех остальных, прежде всего шахтеров, которых она знала по кино и луганским скульптурам.
В городе бабушка тосковала по земле, потому что родилась в деревне. Деревня называлась Алексеевка. Ее деда, а моего прапрадеда звали Иван, но вот фамилии я не знаю и уже не у кого спросить. Он родился при крепостном праве и не умел писать. Зато сохранилась карточка из твердого картона: групповой портрет на фоне плотного забора, заросшего ягодными кустами. Посредине на лавке сидят старик и старуха. Он в кацавейке, она в платке, оба в чоботах, руки сложили, смотрят прямо в камеру без мысли и выражения – как будды. За ними в два ряда – родичи: девять душ и ни одной улыбки. Век с лишним лет назад, да еще в деревне, фотография была не мимолетным развлечением, а фундаментальным событием. Она запечатлела итог трудов длиною в жизнь: семья, а главное – дом.
– Огромный, – вспоминала бабушка, – а сад еще больше. И кони, был собственный извоз. Но все равно дети хотели в Луганск, всего двадцать верст.
Вырвалась только одна – Матрена Ивановна. Она пережила мужа на много десятилетий и умерла в глубокой старости – под сто лет. Я ее знал, немного боялся и стеснялся называть прабабушкой. Высокая, статная, она отличалась несгибаемым нравом, в юности – свирепой красотой, как и все женщины в этом роду. В деревне ей не могли подобрать достойную пару, пока не нашли рукастого шпендрика Гришу. На голову ниже ее, он страстно любил технику и увез молодую в город, на улицу Вокзальную, поближе к паровозам и прочему железу.
Мой прадед Григорий Гаврилович Толстенко боялся жену. Умея справляться только с неживым, он был прекрасным слесарем, токарем, фрезеровщиком. Более того, Гриня, как его звала жена, владел мотоциклом и навещал Алексеевку в кожаных голенищах- крагах, начищенных гуталином до черного блеска. Прадед был щеголем, брил голову, носил острую бородку, нафабренные усы и круглые очки. У меня есть такие, но я в них похож на Троцкого. Он служил в железнодорожной мастерской и строил грузовой паровоз “Феликс Дзержинский”. Судя по фото, он был передовиком: на лацкане – орден с серпом и молотом.