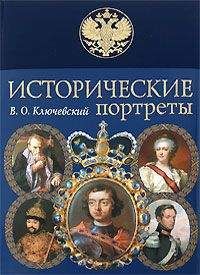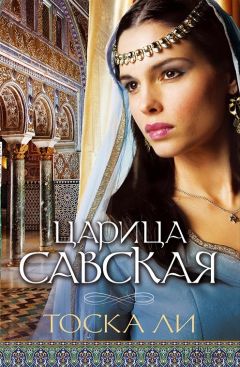Столь же расчетливо было отношение Петра и к иноземным обычаям, как оно сказывалось в беседах. Раз, при шутливом столкновении с князем-кесарем из-за длинного бешмета, в каком Ромодановский приехал в Преображенское, Петр сказал, обращаясь к присутствовавшим гвардейцам и знатным господам: «Длинное платье мешало проворству рук и ног стрельцов; они не могли ни работать хорошо ружьем, ни маршировать. Для того-то велел я Лефорту пообрезать сперва зипуны и зарукавья, а потом сделать новые мундиры по европейскому обычаю. Старая одежда больше похожа на татарскую, чем на сродную нам легкую славянскую; не годится являться на службу в спальном платье». Петру же приписывали и обращенные к боярам слова о брадобритии, отвечающие обычному тону его речи и образу мыслей: «Наши старики по невежеству думают, что без бороды не войдут в Царство Небесное, хотя оно отверсто для всех честных людей, с бородами ли они или без бород, с париками или плешивые». Петр видел только дело приличия, удобства или суеверия в том, чему старорусское общество придавало значение религиозно-национального вопроса, и ополчался не столько против самых обычаев русской старины, сколько против суеверных представлений, с ними соединенных, и упрямства, с каким их отстаивали.
Это старорусское общество, так ожесточенно обвинявшее Петра в замене добрых старых обычаев дурными новыми, считало его беззаветным западником, который предпочитает все западноевропейское русскому не потому, что оно лучше русского, а потому, что оно не русское, а западноевропейское. Ему приписывали увлечения, столь мало сродные его рассудительному характеру. По случаю учреждения в Петербурге ассамблей, очередных увеселительных собраний в знатных домах, кто-то при государе стал расхваливать парижские обычаи и манеры светского обхождения. Петр, видавший Париж, возразил: «Хорошо перенимать у французов науки и художества, и я бы хотел видеть это у себя; а в прочем Париж воняет». Он знал, что хорошо в Европе, но никогда не обольщался ею, и то хорошее, что удалось перенять оттуда, считал не ее благосклонным даром, а милостью Провидения. В одной собственноручной программе празднования годовщины Ништадтского мира он предписывал возможно сильнее выразить мысль, что иностранцы всячески старались не допустить нас до света разума, да проглядели, точно в глазах у них помутилось, и он признавал это чудом Божиим, содеянным для русского народа. «Сие пространно развести надлежит, – гласила программа, – чтоб сенсу (смыслу) было довольно». Предание донесло отзвук одной беседы Петра с приближенными об отношении России к Западной Европе, когда он будто бы сказал: «Европа нужна нам еще несколько десятков лет, а потом мы можем повернуться к ней задом».
В чем сущность реформы, что она сделала и что ей предстоит еще сделать? Эти вопросы все более занимали Петра по мере того, как облегчалась тяжесть Шведской войны. Военные опасности всего более ускоряли движение реформы. Поэтому главное ее дело было военное, «чем мы от тьмы к свету вышли и, прежде незнаемые в свете, ныне почитаемы стали», – как писал Петр сыну в 1715 г. А что дальше? На одной беседе, живо рисующей отношения Петра к сотрудникам и сотрудников друг к другу, на этот вопрос пришлось отвечать князю Я. Ф. Долгорукому, самому правдивому законоведу своего времени, нередко смело спорившему с Петром в Сенате. За эти споры Петр иногда досадовал на Долгорукого, но всегда уважал его. Раз, воротившись из Сената, он говорил о князе: «Князь Яков в Сенате прямой мне помощник: он судит дельно и мне не потакает, без краснобайства режет прямо правду, несмотря на лицо».
В 1717 г. блеснула, наконец, надежда на скорое окончание тяжелой войны, чего Петр желал нетерпеливо: в Голландии открылись предварительные переговоры о мире со Швецией и был назначен конгресс на Аландских островах. В этом году раз, сидя за столом, на пиру со многими знатными людьми, Петр разговорился о своем отце, его делах в Польше, затруднениях, какие наделал ему патриарх Никон. Мусин-Пушкин принялся выхвалять сына и унижать отца, говоря, что царь Алексей сам мало что делал, а больше Морозов с другими великими министрами; все дело в министрах: каковы министры у государя, таковы и его дела. Государя раздосадовали эти речи; он встал из-за стола и сказал Мусину-Пушкину: «В твоем порицании дел моего отца и в похвале моим больше брани на меня, чем я могу стерпеть». Потом, подошедши к князю Я. Ф. Долгорукому и став за его стулом, говорил ему: «Вот ты больше всех меня бранишь и так больно досаждаешь мне своими спорами, что я часто едва не теряю терпения; а как рассужу, то и увижу, что ты искренно меня и государство любишь и правду говоришь, за что я внутренне тебе благодарен. А теперь я спрошу тебя, как ты думаешь о делах отца моего и моих, и уверен, что ты нелицемерно скажешь мне правду».
Долгорукий отвечал: «Изволь, государь, присесть, а я подумаю». Петр сел подле него, а тот по привычке стал разглаживать свои длинные усы. Все на него смотрели и ждали, что он скажет. Помолчав немного, князь начал так: «На вопрос твой нельзя ответить коротко, потому что у тебя с отцом дела разные: в одном ты больше заслуживаешь хвалы и благодарности, в другом – твой отец. Три главные дела у царей: первое – внутренняя расправа и правосудие; это – ваше главное дело. Для этого у отца твоего было больше досуга, а у тебя еще и времени подумать о том не было, и потому в этом отец твой больше тебя сделал. Но когда ты займешься этим, может быть, и больше отцова сделаешь. Да и пора уж тебе о том подумать. Другое дело – военное. Этим делом отец твой много хвалы заслужил и великую пользу государству принес, устройством регулярных войск тебе путь показал; но после него неразумные люди все его начинания расстроили, так что ты почти все вновь начинал и в лучшее состояние привел. Однако хоть и много я о том думал, но еще не знаю, кому из вас в этом деле предпочтение отдать; конец твоей войны прямо нам это покажет. Третье дело – устройство флота, внешние союзы, отношения к иностранным государствам. В этом ты гораздо больше пользы государству принес и себе чести заслужил, нежели твой отец, с чем, надеюсь, и сам согласишься. А что говорят, якобы каковы министры у государей, таковы и дела их, так я думаю о том совсем напротив, что мудрые государи умеют и умных советников выбирать, и верность их наблюдать.
Адмиралтейство. С гравюры 1716 г.
Потому у мудрого государя не может быть глупых министров, ибо он может о достоинстве каждого рассудить и правые советы отличить».
Петр выслушал все терпеливо и, расцеловав Долгорукого, сказал: «Благий рабе верный! Вмале был еси мне верен, над многими тя поставлю». «Меншикову и другим сие весьма было прискорбно, – так заканчивает свой рассказ Татищев, – и они всеми мерами усиливались озлобить его государю, но ничего не успели». Скоро представился и удобный к тому случай. В 1718 г. следственное дело о царевиче вскрыло предосудительные сношения с ним одного из князей Долгоруких и дерзкие слова его о царе. Беда потерять доброе имя грозила фамилии. Но энергическое оправдательное письмо старшего в роде, князя Якова, к Петру, уваженное царем, помогло провинившемуся избавиться от розыска, фамилии от бесчестья носить звание «злодейского рода».